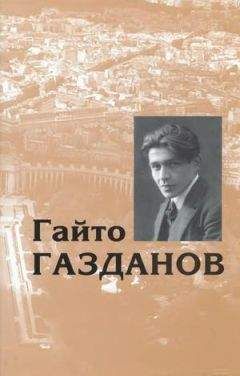Вместе с тем, Борис Аркадьевич не знал ни спокойствия, ни радости; и если бы мне нужно было выбрать из всех определений чувств – таких условных и которых удачность или неудачность зависит чаще всего от простого звукового совпадения или от душевного состояния человека, которому об этом говорят или который об этом читает, – и я знал одну женщину, считавшую «Братьев Карамазовых» эротической и вовсе не мрачной книгой – потому что она прочла ее во время своего свадебного путешествия, – те определения, которые подходили бы к главным чувствам Бориса Аркадьевича, я остановился бы, пожалуй, на том, что это были тоска, и ненависть, и еще смертельное томление, приходившее к Борису Аркадьевичу, когда он просыпался, и покидавшее его, когда он засыпал. Он рассказывал мне, что впервые испытал его еще в детстве. – Все кажется, – говорил он, – что кто-то идет следом за вами и вы даже где-то его видели; и нет никого, и только страшная тишина и вы один.
Я долго не знал, что делает Борис Аркадьевич со своим обширным досугом. Читать он не любил – вернее, перечитывал по несколько раз все одни и те же книги. – Вы литературы не любите? – спросил я его. – Очень люблю. – Но не любите читать? – Некоторые книги я охотно читаю, – ответил Сверлов. – Потом, что такое литература? Пятьдесят книг? Я их прочел. – Следовательно, Борис Аркадьевич тратил время не на чтение.
Он действительно ничего не делал. Вставал поздно, выходил на улицу в час дня, возвращался в четыре, до вечера лежал на диване, затем шел в кафе или кинематограф. Когда кто-то спросил его, не тяготит ли его такая жизнь, он удивился и ответил, что лучшей жизни ему не нужно. – Лучшей в каком смысле? – В смысле приятного времяпрепровождения, – резко сказал Сверлов и оборвал разговор. Ему вообще были свойственны резкость, отрывистые ответы и отсутствие той усыпительной и монотонной, но приятной мягкости голоса, которой отличаются французские intellectuels[52] и некоторые русские любители деликатных и продолжительных дискуссий. Это объяснялось, как мне кажется, тем, что всякий или почти всякий образ общения с окружающими был Борису Аркадьевичу непривычен и неприятен. Он знал из книг и потому, что его учили и воспитывали, все правила, которыми руководствуются люди, вступая друг с другом в хотя бы кратковременные и условные, хотя бы чисто словесные отношения, – но они неизменно оставались для него отвлеченной и нелюбимой наукой. – Я с каждым человеком говорю точно на иностранном языке, – заметил он. Это было довольно верное определение того характера речи, который неизбежно появлялся у Бориса Аркадьевича при встрече с каждым новым человеком; и тогда Борис Аркадьевич действительно начинал походить на иностранца, который хорошо знает чужой язык и правильно говорит – но говорит с усилием и некоторой бессознательной неохотой и враждебностью.
Он обладал несомненным юмором – но резким и недоброжелательным; суждения его носили почти всегда категорический характер. Ему было двадцать восемь лет.
Его появление в обществе Великого музыканта, Елены Владимировны и Франсуа Терье произошло следующим образом. Он сидел за соседним столиком; гарсон кафе в ответ на восклицание – Garcon, un cafe![53] – сделал рукой пренебрежительный жест – подождете, дескать. Лицо Бориса Аркадьевича стало белым от бешенства – и в эту минуту его увидела Елена Владимировна.
– Посмотрите, Франсуа, – сказала она, обратившись к Терье с невольным испугом, – какое страшное лицо. – Борис Аркадьевич застучал палкой по столу и стучал до тех пор, пока к нему не подошел гарсон. – Faites venir le maitre d'hdtel, – сказал Сверлов. Когда подошел метрдотель, Сверлов сказал: – Je commande un cafiS. Expliquez au garcon qu'il ne faut pas faire des gestes aux clients au lieu de reponse. On n'est pas dans un petit cafe de la Villette ici, je l'espere[54].
Кофе тотчас же был принесен, и Борис Аркадьевич замолчал, хотя в его глазах еще продолжала стоять тень того страшного выражения, которое испугало Елену Владимировну.
– Интересное лицо, – сказал Алексей Андреевич.
В эти минуты Борис Аркадьевич увидел меня и поклонился издалека.
– Вы его знаете? – спросил меня Франсуа.
– Знаю. Это очень милый молодой человек с мягким характером.
– En effet?[55] – сказала Елена Владимировна, которая казалась погруженной в разговор с Алексеем Андреевичем.
– Если хотите, я его вам представлю.
И Борис Аркадьевич попал таким образом в этот круг людей – и в то ограниченное ночное пространство, в котором были глаза Елены Владимировны и голос Великого музыканта, и мелодический шум незримого оркестра; и на краю моих представлений об этом – смуглое лицо застрелившегося сутенера и липкие и отвратительные лица нищих с Севастопольского бульвара.
Борис Аркадьевич быстро узнал все отношения, связывавшие между собой этот круг людей; он сразу возненавидел Ромуальда, он был недоброжелателен к Франсуа, которого обидел тем, что сказал, что не читает новых писателей, а французов в особенности; и, встретясь глазами с Еленой Владимировной, он особенно пристально потом смотрел на какой-нибудь незначительный предмет, находившийся перед ним, – точно изучал его. Он был необычайно скрытен; и только случайно я узнал, что нередко Борис Аркадьевич шел по пятам за Еленой Владимировной и Франсуа – и сопровождал их всюду, без того, чтобы подходить к ним. Я имел возможность убедиться в этом три раза. Я знал, что Франсуа играет на скачках и ездит в Longchamps и Auteuil вместе с Еленой Владимировной; и однажды за разговором Сверлов мимоходом сказал, что не так давно на скаковом поле в St. Cloud он встретил знакомого, которого считал умершим.
– Вы любите скачки, Борис Аркадьевич?
– Терпеть не могу, – сказал Сверлов. – Ваш друг, кажется, очень любит развлечения, – заметила мне Елена Владимировна.
– Кто же их не любит? Все любят.
– Вы меня не понимаете. Он всегда на Монмартре. Я там была четыре раза за последние две недели – и каждый раз встречала его.
– Да, он, кажется, любит Монмартр, – сказал я.
Как-то вечером, решив отправиться в кинематограф и не найдя нигде подходящей программы, я пошел от скуки посмотреть revue «Oh, oh, dansons a Paris»[56] в маленьком театре Монпарнаса, – где было шесть girls[57], одна певица с недовольным лицом и три актера, из которых самый высокий был директором труппы, владельцем театра, режиссером, автором и премьером; оркестр был ужасный, декорации тоже, – публика была в кепках, а на сцене говорили и пели вещи, рассчитанные на невзыскательную парижскую публику окраин и небогатых кварталов. Я невольно вспомнил Россию, лето, провинциальные города и фарсы, разыгрывавшиеся в местных театрах, – впрочем, там все это было лучше. – Средний французский актер может сравниться по своему душевному убожеству только с негром, самоедом или зулусом – с той разницей, что те все же естественнее, – сказал как-то Борис Аркадьевич. – А в «Comedie Francaise» вы не были? – продолжал он. – Я попал туда однажды на длиннейшую трагедию Корнеля, которая сама по себе была чрезвычайно дурна – и это еще усугублялось вовсе невероятной игрой актеров; они делали однообразные движения, вытягивая и отдергивая руки, стонали на сцене и говорили с такими интонациями, которые, по их наивному мнению, должны были сделать их речь похожей на речь римлян, но которые мне лично показались бы наиболее характерными в устах идиота или сумасшедшего. – Резкость суждения Бориса Аркадьевича, всегда несколько задевавшая меня, на этот раз показалась мне оправдываемой.
Итак, я пришел в этот маленький театр, сел на свое место и вдруг увидел Елену Владимировну и Франсуа, смеявшегося беспрестанно, – я слышал, как он сказал: – Non, mais c'est fantastique[58], – и недалеко от них – Бориса Аркадьевича. Борис Аркадьевич был в смокинге, производившем необыкновенно странное впечатление: его соседи сидели в расстегнутых рубахах и в ночных туфлях; он, Елена Владимировна и Франсуа все время видели на себе равнодушно-любопытные взгляды публики, – а певица, исполняя какой-то романс, протянула руки со сцены по направлению к Борису Аркадьевичу и прямо взглянула на него, отчего его лицо сразу же задергалось; и он отвернулся, посмотрев предварительно наверх с безнадежным видом – как он это делал всегда, если в его присутствии говорили глупости или совершали поступок, который он считал неправильным. Я вышел из театра за минуту до конца спектакля; и, закуривая на улице папиросу, я видел, как вслед за Еленой Владимировной и Франсуа двинулся Борис Аркадьевич, – и все они свернули в маленькую улицу – по пути к квартире Франсуа.
Я пришел в кафе: оркестр играл механическую свою жалобу, рассекавшую воздух, как минорные, звучные ракеты, полет которых внезапно прекращался, чтобы возвратиться туда, откуда он выходил, и снова быть брошенным в воздух, прозвучать, преодолевая сопротивление металлической среды, и опять сразу умолкнуть; но за умолкавшими его ракетами все шли другие, и все дрожало и звенело, то превращаясь опять в неподвижную прозрачную массу, то снова насыщаясь этими музыкальными и лирическими полетами. В этом было печальное исступление, которое мне казалось опасным, как сумасшествие или смерть, – и от которого все же я не мог бы отказаться, как от разрушительного и сладостного наркоза. Это было то состояние, которое так безошибочно можно было отличить от всех других и которое Алексей Андреевич называл состоянием последних мыслей. – Все известно, – думал я, – все неверно и обманчиво; то, что я знаю, – ничтожно и печально – и почему бы я стал предполагать, что в остальном, чего я не знаю и наверное не буду знать, есть еще какие-то возможности?