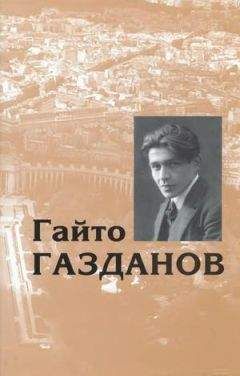Я пришел в кафе: оркестр играл механическую свою жалобу, рассекавшую воздух, как минорные, звучные ракеты, полет которых внезапно прекращался, чтобы возвратиться туда, откуда он выходил, и снова быть брошенным в воздух, прозвучать, преодолевая сопротивление металлической среды, и опять сразу умолкнуть; но за умолкавшими его ракетами все шли другие, и все дрожало и звенело, то превращаясь опять в неподвижную прозрачную массу, то снова насыщаясь этими музыкальными и лирическими полетами. В этом было печальное исступление, которое мне казалось опасным, как сумасшествие или смерть, – и от которого все же я не мог бы отказаться, как от разрушительного и сладостного наркоза. Это было то состояние, которое так безошибочно можно было отличить от всех других и которое Алексей Андреевич называл состоянием последних мыслей. – Все известно, – думал я, – все неверно и обманчиво; то, что я знаю, – ничтожно и печально – и почему бы я стал предполагать, что в остальном, чего я не знаю и наверное не буду знать, есть еще какие-то возможности?
– Есть искусство, – насмешливо говорил Шувалов. – Но вот мы проходим искусство, оно ведь только приближение к чему-то, – и что потом?
– А потом – «самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет» – как говорит Великий музыкант.
Я тоже часто слышал от Ромуальда эту фразу.
– Эту мысль невозможно вынести, – говорил Борис Аркадьевич. – Поймите одно: вот вы видите блистательную красавицу с нежным лицом и хрустальными глазами.
– Заметно, что вы не читаете новых авторов, – сказал Алексей Андреевич, – а то бы вы знали, что так говорить нельзя.
– И вы знаете, – продолжал, не слушая его, Сверлов, – что она так же принадлежит мужчине, как все остальные, – у нее те же движения, то же прерывистое дыхание и те же туманные глаза, что у других. Elle est comme toutes les autres[59]. – И Борис Аркадьевич закрыл лицо руками.
– А вы сентиментальны, – сказал Шувалов. – Я хочу вас утешить: m-r Энжелю еще хуже, чем вам.
– Это неверно.
– Верно. Вы все-таки погибаете с некоторым великолепием, в вас есть что-то карфагенское. A m-r Энжель лишен этих декоративных утешений; он прост, как дверь, и непосредственен – и у него ничего не осталось.
Конец m-r Энжеля был действительно нехорош. Все было плохо прежде всего потому, что m-r Энжель искренне не понимал, почему все так изменили к нему свое отношение. Он не совершил ни одного поступка, который чем-нибудь был бы не похож на все, что он делал всегда; и сам он не изменился. Он оставался таким же оратором, он по-прежнему говорил, что только труд и созидание могут обеспечить государству экономическую будущность; но его слова, вызывавшие раньше энтузиазм, теперь потеряли вдруг всякую убедительность. Всю жизнь m-r Энжель подписывал какие-то векселя и бумаги, и этим заведовал его секретарь – и никогда ничего плохого не получалось. Всю жизнь он составлял проекты реформ местного значения, которые были не хуже и не лучше других; всю жизнь он говорил женщинам: – Ma petite vous etes charmante comme tout[60], – и ему не приходила мысль, что это можно еще сказать иначе, – он просто не понял, когда Елена Владимировна ответила ему: – Вы просто скучны. – Он долго повторял эту фразу: «Вы просто скучны». – Но чего же она хочет? – с недоумением думал m-r Энжель.
Потом он начал сердиться: эти люди просто перестали понимать самые обыкновенные вещи. Но опять-таки они не могли же сговориться?
Он потерял аппетит, он похудел. Он стал неряшлив и небрежен: вдруг сказался его возраст. Встретя его в кафе, я вспомнил, как видел одного знаменитого русского писателя – сначала на литературном вечере, в электрическом освещении; у него было надменное и почти молодое лицо, он был в бархатной шляпе и плаще и был по-своему очень хорош. Второй раз я столкнулся с ним утром, в книжном магазине, куда он пришел по делам: под глазами его были мешки, на щеках серебряная щетина; он постарел на тридцать лет – и, когда он уходил, я обратил внимание на его осторожную старческую походку. – Il est fini[61], – сказала моя спутница.
Если бы m-r Энжель мог понять, что с ним произошло, и мог бы задуматься над этим, то для него началась бы новая – последняя – жизнь. Но он был «прост, как дверь» – и все считал, что это временно, что это недоразумение, – и все еще в редких своих разговорах повторял то, что говорил раньше. Я видел его еще раз, через год после его падения; это был неряшливый старик с сердитым лицом; он был в потертом костюме и стоптанных башмаках. Я поклонился ему, он узнал меня, какая-то тень пробежала, по его лицу, и он отвернулся. Но мне даже не стало его жаль; он был уже так далек от меня и так мне чужд, как почти все люди, с которыми я был близок в моей жизни и которые потом переставали существовать для меня, как будто бы они умерли – хотя они были живы и даже нисколько не изменились. Но я путешествовал, они же оставались на своих местах; я успевал в период разлуки погрузиться словно бы в напряженный сон и увидеть веши бесконечно измененными – и проснуться, став уже старше на какое-то пространство времени и расстояния, – а их я видел все там же, и только иногда и чрезвычайно редко мне удавалось проследить в их глазах что-то похожее на то невыносимое страдание от неподвижности, которое есть у деревьев, жаждущих движения, как человек – бессмертия.
Алексей Андреевич давно говорил мне, что я недооцениваю таланты Великого музыканта; он так настойчиво это повторял, что я стал искать в его словах тот скрытый смысл, о котором он не хотел прямо говорить. Единственное, что я мог предположить, это что Елена Владимировна может стать очередной жертвой Ромуальда. Но это казалось мне невозможным. Конечно, Великий музыкант был в некотором смысле почти неотразим, но все же он был «альфонс» и уже по одному этому был, казалось, заранее осужден. Как я ни старался, я не мог подавить в себе невольного презрения к нему, это было даже не презрение, а нечто похожее на физическое отвращение. Кроме того, для Елены Владимировны, привыкшей к обществу Франсуа, который, в конце концов, был несомненно и умен, и даже, в сущности, талантлив, – Ромуальд должен был казаться человеком низшего порядка. Я не знал, что одно движение Великого музыканта, – когда Елена Владимировна почувствовала на своей коже – она была в открытом платье, Ромуальд шел рядом с ней – его мягкие и сильные пальцы, – одно это движение будет значить для нее больше, чем блистательное и бесплодное красноречие Франсуа с его «Джиокондой» и множеством умных и верно понятых вещей. Но как только я понял, что это возможно, я знал уже, что произойдет катастрофа, – и я видел перед собой то выражение глаз Бориса Аркадьевича, которое заставило Елену Владимировну сказать Терье: – Посмотрите, Франсуа, какое страшное лицо.
То, о чем не хотел говорить Шувалов – и что мне казалось только неверным предположением, – то, в результате чего Алексей Андреевич сказал Франсуа – poor Yorik![62] – совершенно так же, как Франсуа в свое время сказал m-r Энжелю – mon pauvre ami[63], – то есть уход Елены Владимировны к Великому музыканту, – произошло в вечер концерта Шаляпина, на котором были мы все – но сидели в разных местах. Мы с Шуваловым были на балконе. Было множество народа, и громадный зал Плейель был полон разными людьми – начиная от первых рядов партера, где сидели мужчины в смокингах и фраках и дамы в вечерних туалетах, до последних рядов верхнего яруса, заполненных русскими фабричными рабочими – в однообразных синих костюмах, – рабочими с покрасневшими от крахмальных воротничков шеями и разбухшими пальцами. Рядом со мной сидел Лабик, самый знаменитый и модный из молодых французских композиторов. Он был одет в смокинг и белый жилет; и на его пухлом желтоватом лице было то презрительное выражение, делавшее его похожим на старого неудачника-актера, которое я знал давно и которое не покидало Лабика почти никогда; он сам считал, что оно делает его интересным, и такое заблуждение его вовсе не казалось мне удивительным, так как, будучи действительно талантливым композитором и чувствительным к музыке человеком, в остальном Лабик был ограничен, и круг его эстетических понятий, выходивших из области музыки, отличался некоторой узостью. И, может быть, отчасти сознавая это – так как музыкально-душевные его способности иногда на короткое время могли превратиться в иные качества, необходимые для обычного интуитивного понимания, – он был «снобом» и даже педерастом: но не по физиологической потребности, а все из того же снобизма, несколько наивно им воспринятого. Была в нем еще одна черта, характерная для его ограниченности: он считал, что в мире царит латинский гений, – и, независимо от того, в какой степени это было правильно или неправильно, это его мнение всегда вызывало чувство неловкости у окружающих: Лабик был француз и как француз должен был высказывать другие взгляды – что было бы приличнее. Но Лабик этого не понимал.