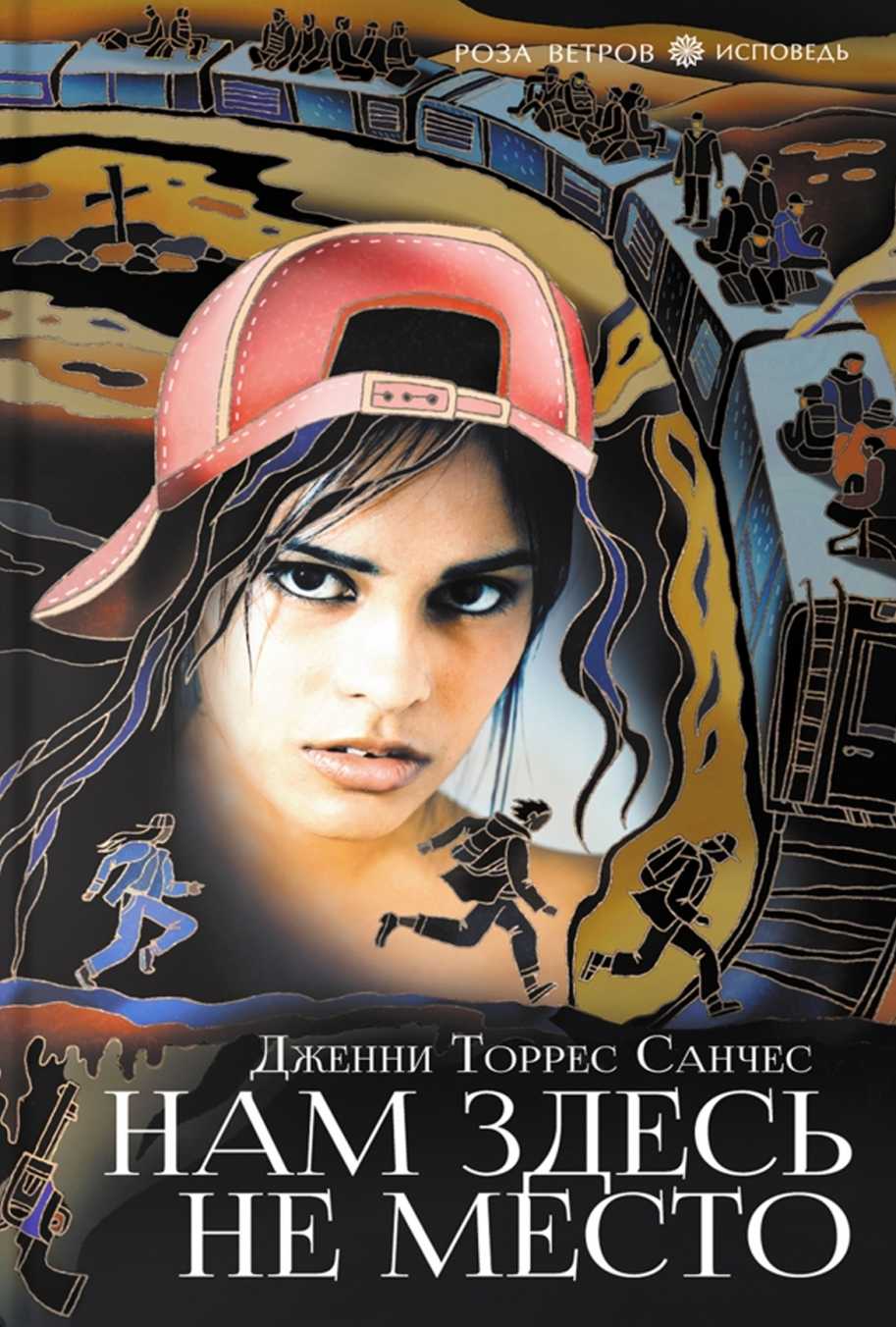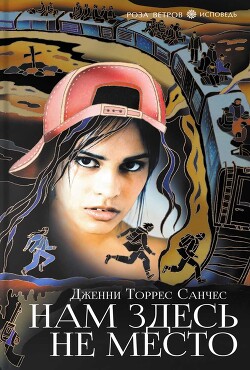день по солнцепеку, чтобы встретиться с малышом Крошки, которого она так долго рожала. Неужели на столе лежит он же, Чико? Может, потому женщина и оставила открытым его лицо, чтобы я не сомневался, что это действительно он. Хотя и лицо его не похоже само на себя, серое и грязное. Он не улыбается, не смотрит на меня.
Я закрываю глаза, потому что не могу больше этого видеть. Мысленно возвращаюсь в Барриос, на нашу улицу. Вспоминаю, как мы бежали в тот день, а вокруг вилась пыль, готовая нас поймать. Мы с Чико направлялись в сторону лавки, и на лице у него была эта дурацкая улыбка, которую не смогла до конца стереть даже гибель его мамиты. А я кидал в его сторону камешки, когда мы подходили к прилавку. Будто какое-то печальное божество, я наблюдаю за последними моментами нашего детства.
Когда я снова открываю глаза, по всему патио горят свечи. А за спиной у меня люди, они наполняют двор молитвами, тихими, как сияние этих свечей.
Женщины бережно обмывают лицо Чико.
То, что лежит на столе, — это он и есть.
Грудь разрывается от боли, слишком сильной, чтобы сердце смогло ее вместить. Слезы жгут глаза, текут по щекам. Я оплакиваю Чико. Оплакиваю человека, которым он не успел стать, потому что ему не дали такого шанса. Я плачу и по себе тоже. По всем нам.
Свечи догорают, и я закрываю глаза, словно отгораживаясь от этого дня.
Когда я открываю их снова, уже утро, и Крошка сидит рядом, держит меня за руку и смотрит на Чико.
Я обвожу взглядом пустое патио: кроме нас, тут только священник, отец Хименес, который пытался спасти Чико. Он почти сразу подходит к нам.
— Я знаю, это трудно, — говорит он, — но мне нужно поговорить с вами о… — Он указывает на Чико, — о твоем друге?
— Брате, — поправляю его я. — Чико.
— Чико, — шепчет он. — Прости, что приходится обсуждать это сейчас, но мне надо понять, как бы ты хотел с ним поступить. Отправить его назад будет сложно, путь займет много времени. — Падре говорит медленно, чтобы его слова дошли до моего сознания. Чтобы у меня было время их осмыслить. — Если я позвоню, власти приедут и заберут его, но… — Он старательно подбирает слова. — Но после этого он неизвестно сколько пролежит в морге. Трудно будет отследить, что станет с… человеком. Я слышал, что не всех возвращают близким для нормальных похорон.
Я представляю, как тело Чико пересекает границы, возвращаясь туда, откуда мы бежали. Тогда все это, все его путешествие окажется напрасным. Оно закончится там же, где началось. Нет, мне невыносима мысль о том, что его отправят назад или что он будет лежать в морге, всеми забытый и никому не нужный.
Я смотрю на Крошку и говорю:
— Я не хочу, чтобы его отправили назад.
Она кивает, и отец Хименес продолжает:
— Мы хоронили людей здесь. — Он показывает на расположенный в стороне участок земли. — Там у нас кладбище для таких, как Чико, кто встретил свою гибель в пути.
Я смотрю на кресты вдалеке и думаю о Чико, который останется тут навечно. На этом кладбище, вдалеке от дома и от мест, где мы мечтали оказаться. Теперь он навсегда застрянет между ними.
— Даже не знаю… — говорю я наконец.
— Мы все сделаем как следует. Я возьму на себя все заботы о нем, как только вы уедете. Каждый день я хожу на кладбище и молюсь обо всех, кто там лежит. Он не будет одинок.
Отец Хименес смотрит на участок за шелтером, где лежат погибшие в пути, чьи мечты оборвались, а сердца перестали биться тут, на рельсах Ля Бестии, искореженные и разорванные.
Как и их тела.
Как Чико.
Крошка глядит вдаль.
— Кажется, так будет лучше всего, — тихо произносит она.
Но неожиданно мысль о том, чтобы оставить Чико, кажется мне невозможной. Я просто не могу представить, как брошу его здесь и как поеду дальше без него. Я мотаю головой.
— Нет-нет, мы… мы должны вернуться, — говорю Я ей. — Мы должны отвезти его домой.
— Мы не можем вернуться, — возражает она.
Тогда я сделаю это сам, — заявляю я. — Отвезу его домой, в Барриос, и похороню рядом с мамой. Он хотел бы этого. Я должен. Я не могу оставить его здесь, одного.
Крошка пристально смотрит на меня, ее глаза наполняются слезами.
— Он уже не здесь, Пульга, — шепчет она, — он ушел.
— Он именно здесь, — отвечаю я. — И я собираюсь отвезти его домой.
— Послушай, — говорит она, мягко обнимая меня за плечи. Я пытаюсь оттолкнуть ее, но она держит крепко. — Ты думаешь, он хотел бы, чтобы ты вернулся? Думаешь, он хотел бы, чтобы ты сейчас оказался в Барриосе? Ты хотел бы, чтобы он поехал обратно, если бы ты сейчас лежал на этом столе?
— Пусти, — требую я, но она не слушается. Не отпускает.
— Ты должен ехать дальше.
Я закрываю глаза и трясу головой. Нет! Что я должен, так это забрать Чико. Взвалить на спину его искалеченное тело и нести домой, через границы, через поля, мимо наркос, полицейских и скрежещущих поездов. В то место, которое мы любим и ненавидим, которое любит и ненавидит нас.
— Ты поедешь дальше, — говорит мне Крошка. — Мъгпоедем дальше. И мы доберемся куда надо, ради Чико, понятно?
Я снова мотаю головой, но сам морщусь, потому что слышу, как всего несколько дней назад обещал Чико именно это: что мы доберемся, мы сможем.
«Да что ты знал?» — говорю я себе, глядя на Чико, потом обнимаю его тело, хоть оно уже пахнет смертью, а лицо стало чужим, и твержу ему:
— Прости меня… Мне так жаль…
Крошка тянет меня прочь и обнимает.
— Он уже не здесь, Пульга. Он вот тут, — говорит она и кладет ладонь мне на грудь, туда, где сердце. — Он всегда будет тут.
Да только сердца у меня больше нет. Оно разбито.
Крошка не понимает и никогда не сможет понять. Она не любила Чико так, как я. И не из-за нее он погиб.
А из-за меня.
Несколько мужчин из шелтера начинают делать гроб. Отец Хименес остается со мной и Крошкой. Все это время мы сидим во дворике. Крошка тихая, собранная; я то и дело забываю, что она рядом, и вспоминаю, лишь когда начинаю плакать и чувствую ее легкое прикосновение к моей руки или плечу.
Я думаю о последней улыбке Чико.
Іде-то в стороне — далеко-далеко от нас