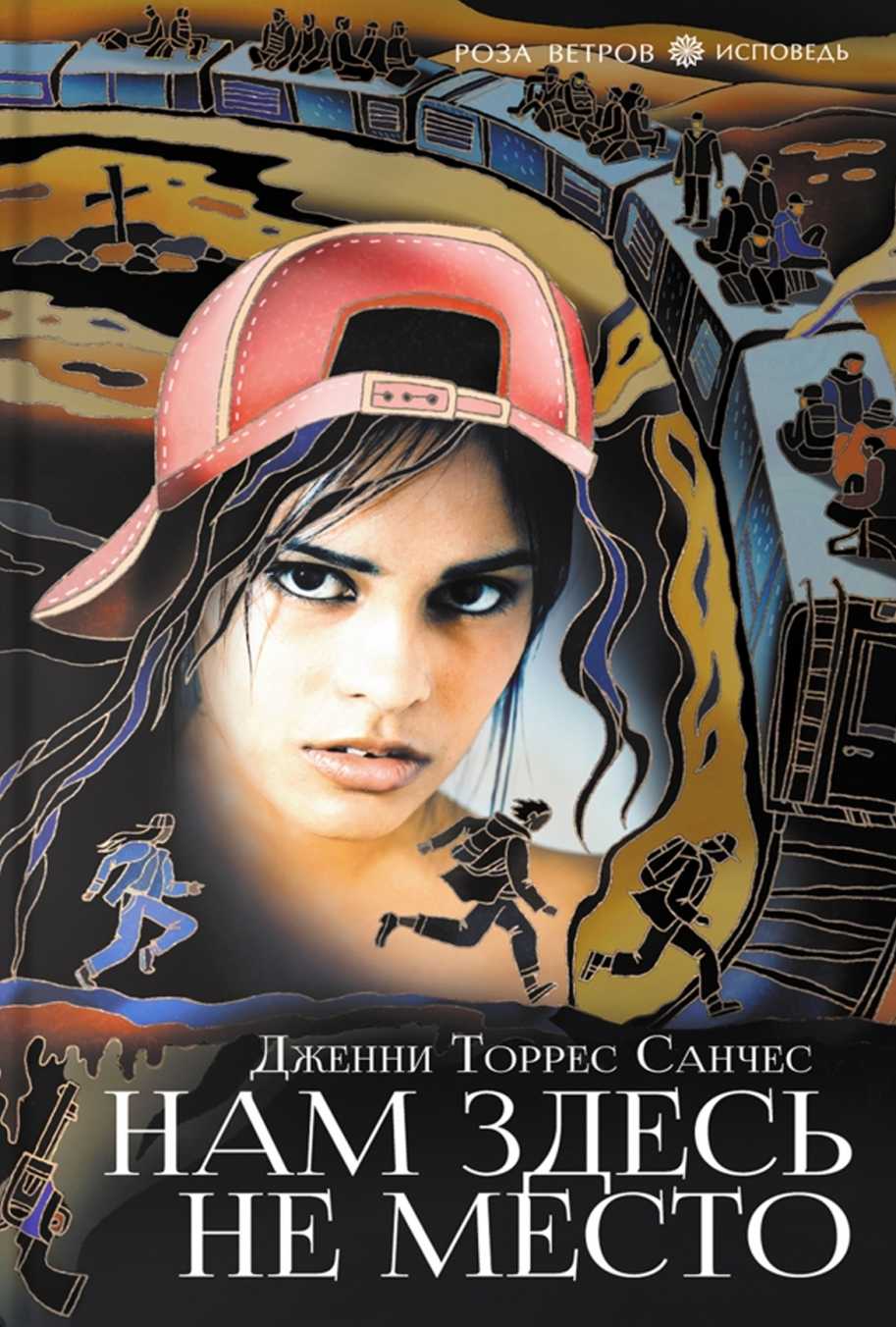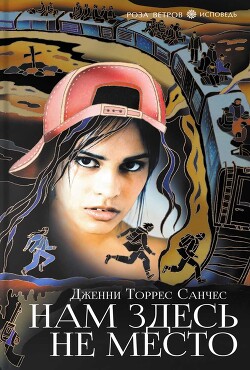слезы, которые нужно пролить, чтобы идти дальше.
Ночью, растянувшись на полу, где нам постелили, я смотрю на Пульгу. Он лежит, уставившись в потолок.
— Завтра отходит поезд, — начинаю я. Он не смотрит на меня, но я знаю, что слушает. — Нужно сесть на него, Пульга.
Я вижу, как учащается его дыхание, как быстрее начинает подниматься и опадать грудь, как шевелится кадык, когда он сглатывает готовые вырваться всхлипывания. Но он молчит.
— Я знаю, ты не хочешь ехать. Я знаю, что ужасно покидать Чико, но… мы не можем остаться здесь навсегда.
Из глаз у него сбегают слезы. Я отвожу взгляд и чувствую, что слезы текут и у меня тоже.
— Нам надо ехать, — говорю я. — Он хотел бы, чтобы мы поехали. Мы должны это сделать в память о нем. Ради него мы должны двигаться дальше.
Прежде чем Пульга наконец отвечает, мы некоторое время лежим в молчании.
— Я знаю, — шепчет он. — Знаю. Даже если мы погибнем в пути.
Мы ждем, но поезд просто стоит на рельсах. Уже несколько минут я чувствую на себе взгляд Крошки.
— Вот, — шепчет она и сует мне какую-то еду.
Я отворачиваюсь. Есть мне не хочется. Мне вообще ничего не хочется.
— Нужно хоть немного перекусить, — настаивает она, но я не обращаю на нее внимания. Я не хочу ни слышать ее голос, ни жевать этот хлеб, ни ждать, когда проснется зверь, который не желает двигаться.
Крошка снова протягивает мне хлеб, и я отталкиваю ее руку:
— Хватит.
— Не злись на меня, Пульга.
Я тупо смотрю на пути. Мне хочется сказать, что я не злюсь, но я не могу этого сделать. Я вообще не понимаю, кто я и что со мной.
Наверное, надо бы объяснить, что я не хочу злиться и грустить тоже не хочу. Что я просто пытаюсь ничего не чувствовать и не реагировать на слова, которые до сих пор выкрикивает мое сердце и которые шепчет мне из могилы Чико: «Почему ты уезжаешь? Как ты можешь?»
Я готов броситься сейчас обратно в приют и остаться у его могилы, а Крошка пусть едет сама. Вот только сил на это у меня нет. И я знаю, что Чико был бы против, поэтому сижу тут и жду вместе с Крошкой, которая ест хлеб и смотрит на поезд, как будто мир не рухнул.
— Может, тебе вообще наплевать, что он погиб?
Слова вылетаюъ сами, прежде чем я понимаю это. Моя рука выхватывает у нее хлеб и швыряет на землю. Я мысленно кричу собственному сердцу: «Не надо!» — но уже поздно. Мои слова сочатся злостью и печалью, и мне кажется, что Крошка сейчас отшатнется, обидится, разозлится или наорет на меня. Но она просто подбирает хлеб и продолжает его есть, даже не отряхнув от грязи. Она смотрит на меня долгим взглядом. В конце концов я отворачиваюсь, потому что в ее лице слишком много сострадания и понимания, и это терзает мне душу.
— Сколько бы мы тут ни торчали, сколько бы ни ждали, он не вернется, — говорит она.
К глазам подступают слезы, и я смотрю, как они капают на бетон и становятся темными пятнышками.
«Хватит! Хватит! Хватит!» — твержу я им.
Но они всё текут.
Весь день мы сидим и смотрим на поезд. Мы ждем, когда он оживет и когда начнется четырнадцатичасовой путь из Лечерии в Гваделахару. Но зверь с лязгом и грохотом просыпается, лишь когда опускается вечер.
Мы хватаем рюкзаки и бежим к нему. Нас немного, лишь несколько человек, которых я видел в шелтере. Какое-то количество людей уже ждет у поезда. Может, тем, кто добрался сюда, нужен более долгий отдых. А может, все остальные просто передумали. Или сдались. Или умерли.
Как Чико.
Поезд трогается, набирает скорость, и Крошка смотрит на меня. Лицо у нее печальное и встревоженное. Я думаю, ей неловко оттого, что она заставила меня ехать дальше. По-моему, она знает, что, не сделай она этого, я бы просто остался тут.
Когда мы отъезжаем, я опускаю голову, потому что устал от вида, который открывается с крыши вагона. Устал цепляться за жизнь. Устал от обилия земли и грязи повсюду, и у нас под ногами, и над теми, кого мы любим. Я опускаю голову, потому что у меня нет сил смотреть на место, где погиб мой лучший друг. Іде почва пожирает его плоть и превращает кости в пыль. Не хочу запоминать миг, когда я его оставил. Я закрываю глаза, но не сплю и вдруг слышу знакомый голос: «Мы это сделаем».
Я смотрю на свой рюкзак. Не знаю, есть ли у меня желание слушать отцовскую кассету, но я устал от воя ветра в ушах, от лязга колес о рельсы, поэтому достаю свой плеер. Надеваю наушники, нажимаю кнопку воспроизведения и жду конца песни, чтобы услышать голос отца: «Когда-нибудь, Консуэло, моя группа прорвется. Клянусь, однажды мы это сделаем. И тогда я дам тебе все, чего ты хочешь. Все, чего ты когда-либо хотела в своей жизни. Есть только ты. Ты и я. А теперь оцени вот это. Послушай басы».
Я слушаю его слова еще раз.
И еще раз.
Но мысли начинают блуждать, я думаю о том, какие глупые мечты были у отца, и о маминых мечтах, и о своих собственных, у которых я пошел на поводу, не успев подавить их. Я гадаю, стал бы отец по-настоящему большим музыкантом, останься он жив. Черт, я всегда думал, как много потерял мир, когда его не стало. Когда не стало его музыки. Но теперь все это кажется бессмысленным. Почему я вообще верил в такую чушь? Ведь великими становятся немногие. Возможно, это не удалось бы и моему папе. Никогда. И может, он стал бы озлобленным, и винил в своих бедах нас с мамой, и разбил бы мамино сердце, как это сделал отец Крошки. Может, вообще любые мечты обречены на крах, и так было всегда. Всегда.
Я перематываю кассету и снова слушаю отцовский голос. Все, что я слышу, кажется мне ложью. Вроде той лжи, к которой прибегал я сам. Я лгал, когда говорил Фелисио, что Галло скоро придет с ним повидаться. Лгал Чико, когда он истекал кровью. Лгал маме, рассказывая, что у меня все в порядке.
Лгал я и себе, насчет того, что надет меня в будущем. Может, мои мечты тоже всегда были обречены на крах. Может, я не должен