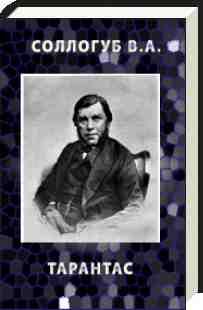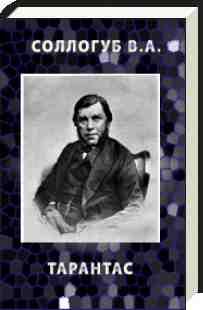— Хорошо-с. Вздумал я было свои права предъявить, как супруг, забушевал, полез на нее с кулаками. — «Ну, вдарь, вдарь», — говорит. — А то не вдарю? — «Лишь тронь» — говорит, — «так вот по самую рукоятку и запущу!» Ножик у ней в руках. — Режь, — говорю, — стерва! я этого и ищу! К-как мазну ее, она — брык! Я и пошел ее месить. Так что же вы думаете? Вывернулась! Как черканет меня ножом вот в это место в спину! Угоди пониже, ну… был бы я теперь в лоне Авраама, Исаака и Иакова. Кровь из меня, как из резанного барана, засвистела… Гляжу: затряслась она вся, кинулась ко мне. — «Прости. Христа ради! Я нечаянно»… Ну, характер во мне отходчивый… — Бог с тобой, — говорю, — но вперед так не делай.
— Любил я ее, стерву! Сколько я этой муки душевной чрез нее перенес, конца-краю нет! Сидишь; бывало, на службе, как на иголках, не чаешь как бы скорей домой попасть. Беспокойство, мнение разное в голову лезет, сердцем мучусь, сохну… А тут люди смеются, стыда не оберешься, и так кипит аж все во мне! Самое прямое дело — бросить бы, уйти, — ведь не венчаны, — ну, сил не хватает, присох, не в себе стал, рассудку лишился. Просто чувствую, что погибаю, и тут вся моя точка…
— У следователя в титуле писца бросил заниматься. Не мог. Просто, не мог от дома отойти, измучило меня мнение. Предложил мне тесть сесть в лавку, дал товару — так рублей на пятьдесят, я думаю, не больше… И стал я купцом. Сам тесть батюшка торговал в разъезде, а я в лавочке. Торговали мы с ним так месяца четыре и маленечко прожились. А как маленечко? Ничего не осталось, кругом стали чисты…
— И в это самое время произошла моя главная катастрофа. Катерина и впредь того отбивалась от дома, по вечерам пропадала. Ищешь, ищешь, бывало, — как в воду канет! Придешь назад, — она уж дома. Ну, конечно, скандалили. Каждый день скандал, бывало. Но ничего не мог сделать: такой дьявольский характер… Вот прихожу однажды вечером домой из своего пустого магазина, — Катерины нет. Дело привычное, промолчал. Однако, одиннадцать часов — нет, двенадцать — нет… Думаю себе: Господи! хоть бы придушили ее, стерву, где-нибудь — ничуть бы не пожалел!.. Нет терпения. Пошел по слободе, походил — походил, постоял около некоторых подозримых домов, вернулся — нет! Ночь прошла — нет! — Надо, — говорю, — полиции заявить: может, убили или повесили где-нибудь? Глянул так: над зеркалом бумажка торчит. Беру, — записка: «Любезный супруг, Семен Касьяныч! Читай это письмо, меня лихом не поминай. Был ты моему сердцу ближайший человек, но жить нам с тобой нечем, а с голоду издыхать нет охоты. К чему и зачем? Надо испытать до конца, каков рок вашей жизни, а придет время помирать, — не миновать день терять. Меня не разыскивай и не жди: к тебе не вернусь». И еще там что-то вроде: «целую на прощанье разочек в правый глазочек»… Одним словом, вроде смеху…
— Ну, доведись на меня, — я бы за это вожжами, — сказал сочувствующим тоном Терентий и погрозил кнутовищем в пространство: — я бы выучил вежливому обращению! У меня бы она, как на сырых яйцах, ходила…
Он странно балансировал на своих козлах, медленно раскачиваясь то вправо, то влево; иногда отяжелевшая голова его непроизвольно склонялась почти к самому хвосту серого Бунтишки, и вот-вот, казалось, упадет он под колеса, но в самый последний момент он все-таки встряхивался, выпрямлялся и восстановлял надлежащее равновесие. Пульхритудов несколько раз порывался ухватить его сзади за кушак и держать рукой, в избежание неминуемой катастрофы, но и он сам чувствовал, как неведомая сила медленно, но неуклонно тянет книзу его отяжелевшую голову, как на усталые веки опускается ласковая и коварная дремота… Смутные, пестро-слитые и рассыпающиеся звуки назойливо вьются, прыгают, звенят и перескакивают в ушах, бегут следом за тарантасом, рядом и впереди. Ровным, ритмически размеренным частым тактом хлопают копыта лошадей. А, может быть, это и не лошади? Может быть, кто-нибудь большой, лохматый, насмешливый, похожий на присяжного поверенного Бабунидзе, бежит впереди на четвереньках и хлопает огромными волосатыми ладонями о сухую, кочковатую землю, бежит и дразнится… — Ты — первобытный человек! — сказал Пульхритудов, с усилием тараща глаза в качающуюся спину Терентия: — вожжами… эх, — ты, дикарь! Тебе недоступно понимание этого великого чувства… этого всепожирающего огня…
— То есть вы, вашескобродие, это насчет того, чего мыши не едят?
— Папуас! — с сердитым отчаянием воскликнул Пульхритудов: — папуас из Новой Гвинеи!..
— Насчет баб, вашескобродие, действительно, наше понятие к образованному не подойдет… Тощи мы очень. Который ежели человек гладкий, полнокровный, то в нем жирок играет, и он мастак лясы точить. А в тощем человеке — лишь уныние духа… Где ж ему о бабьем телосложении думать?..
— И будто ты никогда не думал? — усмехнулся Пульхритудов.
— Признаться сказать, в солдатах когда был, приходилось подбирать валежник разный… Грешил… И то, бывало, норовишь к куфарцу[15] подъехать: авось, с господского стола коклетку стибрит да покормит…
Пульхритудов рассмеялся и толкнул кулаком в спину Терентия.
— Варвар! Материалист и варвар! — захлебываясь пьяным, визгливым смехом, восклицал он: — во всем только выгоды ищет…
— А бабы, вашескобродие, — возразил Терентий не без горячности: — бабы тоже деньгу любят… За деньги они душу отдать готовы…
Товарищ прокурора вдруг остановился и изумленно выпучил глаза, точно внезапно поражен был этим открытием.
— Это — верно, — сказал он упавшим голосом, после значительной паузы.
— Это верно, — грустно повторил он, обнимая левой рукой притихшего Семена Парийского: — да, изрядно огорчила нас с тобой жизнь, Сема!..
Он нагнулся к нему, движимый приливом сострадательной нежности, чтобы поцеловать, и сперва чмокнул в котелок, отчего на губах почувствовал вкус и запах cерогo мыла, а затем уже облобызал жесткую щетину его подбородка.
— Надула, брат, нас жизнь… Самым мошенническим образом надула! — прибавил он огорченным тоном: — вот и я с урожденной Батура-Воробьевой связался… К чему? на какого дьявола кутейнику Пульхритудову понадобилась Батура-Воробьева? Прошлое ее — весьма укоризненной чистоты… Папа ее, бывший полицеймейстер, лишь каким-то чудом ускользнул от скамьи подсудимых за вымогательство, — теперь позорно влачит существование в проплеванном именьишке… Ну, зачем мне нужны были столь великолепные связи? Нет, влез, черт меня дери!..
— Обула в лапти и меня не плохо[16], — в тон товарищу сказал Парийский: — ежели бы она, стерва, скрылась да так бы вести о себе не подавала, — ну и черт бы с ней… Забыл, и дело с концом. А то забыть не успел, получаю письмо — через Тишку: так и так, мол, живу в Астрахани, бедствую, выручи деньжонками, сколько есть возможности. А я сам в то время без места был, у отца заместо работника жил, как необразованный дикарь, привезенный из необитаемой страны: ни одежи, ни обувки порядочной. Денег… где же я тебе возьму денег? Горсть волос с головы — только и могу пожертвовать… Однако, ляжешь ночью — глаз не сомкнешь: все она представляется, глаза ее печальные, голос ее в душу вьется, плачет, зовет… Нет терпения!.. Ну, стал следить я, куда родитель шкатулку прячет. Проследил. В одно прекрасное время вскрыл и вижу: 136 рублей бумажками и рублей двадцать серебром, мелочью. Бумажки все забрал, а из серебра не больше, как рубля четыре, — на дорогу… И махнул прямо в Астрахань.
— Разыскать ее тоже была история… Но разыскал. На рыбных промыслах работала. Ничего, веселая такая. В зубах папироска… В штанах… Там все бабы в штанах работают. В теле несколько опала, лицо худое, а удали не бросает. Встречает меня смехом. — «Имею честь», — говорит, — «привалиться, то есть приставиться, Сидор-Гаврил Иваныч! Очень рада тебя видеть, дорогой муженек, милости просим копеек за восемь!..» Ну, и разные другие слова… зажигательные… Это она могла!.. И ровно пять дней мы пожили с ней. Попили, погуляли на совесть, можно сказать. А на шестой просыпаюсь в номере, — Катерины нет. Туда-сюда — нет. Хвать за карман — ни копейки денег, даже за номер нечем отдать. Ткнулся в разные места насчет работы, — нигде не нужен…
— Вот тут-то я и зачерпнул и голоду, и холоду, и вольной босяцкой жизни… Порядок вообще известный: стал ходить на пеший базар, продавать с себя одежду. Какую продам, какую променяю, чтобы взять додачи. И очень скоро достиг, что на мне ничего не осталось, — гол, как сокол!.. Ну, побирался, конечно, приворовывал, где ловко, — около торговок больше, — в обжорках[17] проедался. Днем еще туда-сюда, ничего, а вот ночь придет, — ну, некуда головушку преклонить… Уйдешь на мойный мост, где бабы белье моют, — холод, волна задает за рубаху. В других местах — полиция ловит. Нашел я одно хорошее место — в ларях, куда торговки днем товары свои складывают. Укромное бы местечко, но комар заедал. Ух, и здоровый комар был! Прямо — африканский комар, который железо перегрызает, как в географии учили… Да. Вот в это-то время я и подломился здоровьем, — тут от голода, тут от изнурения, бессилия…