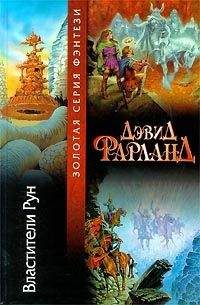Все эти капризы и странности Петр Михайлыч, все еще видевший в дочери полуребенка, объяснял расстройством нервов и твердо был уверен, что на следующее же лето все пройдет от купанья, а вместе с тем неимоверно восхищался, замечая, что Настенька с каждым днем обогащается сведениями, или, как он выражался, расширяет свой умственный кругозор.
- Экая ты у меня светлая головка! Если б ты была мальчик, из тебя бы вышел поэт, непременно поэт, - говорил старик.
Дочь слушала и краснела, потому что она была уже поэт и почти каждый день потихоньку от всех писала стихи.
Так время шло. Настеньке было уж за двадцать; женихов у ней не было, кроме одного, впрочем, случая. Отвратительный Медиокритский, после бала у генеральши, вдруг начал каждое воскресенье являться по вечерам с гитарой к Петру Михайлычу и, посидев немного, всякий раз просил позволения что-нибудь спеть и сыграть. Старик по своей снисходительности принимал его и слушал. Медиокритский всегда почти начинал, устремив на Настеньку нежный взор:
Я плыву и наплыву
Через мглу - на скалу
И сложу мою главу
Неоплаканную.
Все это разрешилось тем, что в одно утро приехала совершенно неожиданно к Петру Михайлычу исправница и прямо сделала от своего любимца предложение Настеньке. Петр Михайлыч усмехнулся.
- Благодарим вас покорно, Марья Ивановна, за ваше беспокойство, а Медиокритского за честь, - сказал он, - только дочь моя еще молода.
У исправницы начало подергивать губу; она вообще очень не любила противоречия, а в этом случае даже и не ожидала.
- Это, Петр Михайлыч, обыкновенно говорят как один пустой предлог! возразила она. - Я не знаю, а по-моему, этот молодой человек - очень хороший жених для Настасьи Петровны. Если он беден, так бедность не порок.
Петру Михайлычу стало уж немного досадно.
- Бедность точно не порок, - возразил он, в свою очередь, - и мы не можем принять предложения господина Медиокритского не потому, что он беден, а потому, что он человек совершенно необразованный и, как я слышал, с довольно дурными нравственными наклонностями.
- Здесь, кажется, у всех одно образование, что у женихов, что у невест! - проговорила исправница с насмешкою.
Настенька, бывшая свидетельницей этой сцены, не вытерпела.
- У вас, Марья Ивановна, у самих дочь невеста, - сказала она, - если вам так нравится Медиокритский, так вам лучше выдать за него вашу дочь.
- Нет-с, он не может быть женихом моей дочери, - произнесла с ударением исправница.
- Почему же вы думаете, что он может быть моим женихом? - спросила гордо и вся вспыхнув Настенька.
- Ах, боже мой! - воскликнула исправница. - Я ничего не думала, а исполнила только безотступную просьбу молодого человека. Стало быть, он имел какое-нибудь право, и ему была подана какая-нибудь надежда - я этого не знаю!
Настенька вышла из себя; на глазах ее навернулись слезы.
- Подавали ему надежду, вероятно, вы, а не я, и я вас прошу не беспокоиться о моей судьбе и избавить меня от ваших сватаний за кого бы то ни было, - проговорила она взволнованным голосом и проворно ушла.
Исправница насмешливо посмотрела ей вслед.
- И ваш ответ, Петр Михайлыч, будет тот же? - спросила она.
- Совершенно тот же, Марья Ивановна, - отвечал Петр Михайлыч, - и мне только очень жаль, что вы изволили принять на себя это обидное для нас поручение.
- А я, конечно, еще более сожалею об этом, потому что точно надобно быть очень осторожной в этих случаях и хорошо знать, с какими людьми будешь иметь дело, - проговорила исправница, порывисто завязывая ленты своей шляпы и надевая подкрашенное боа, и тотчас же уехала.
Петр Михайлыч проводил ее до лакейской и возвратился к дочери, которая сидела и плакала.
- Это что, Настенька, плакать изволишь?.. Что это?.. Как тебе не стыдно! Что за малодушие!
- Это, папенька, ужасно! Она скоро приедет лакея своего сватать за меня. Ее бы выгнать надобно!
- Ну, ну, перестань! Какая вспыльчивая! Всяким вздором огорчаешься. Давай-ка лучше читать! - говорил старик.
Но Настенька и читать не могла.
Случай этот окончательно разъединил ее с маленьким уездным мирком; никуда не выезжая и встречаясь только с знакомыми в церкви или на городском валу, где гуляла иногда в летние вечера с отцом, или, наконец, у себя в доме, она никогда не позволяла себе поклониться первой и даже на вопросы, которые ей делали, отмалчивалась или отвечала односложно и как-то неприязненно.
Недели через три после состояния приказа, вечером, Петр Михайлыч, к большому удовольствию капитана, читал историю двенадцатого года Данилевского[13], а Настенька сидела у окна и задумчиво глядела на поляну, облитую бледным лунным светом. В прихожую пришел Гаврилыч и начал что-то бунчать с сидевшей тут горничной.
- Что ты, гренадер, зачем пришел? - крикнул Петр Михайлыч.
- К вама-тка, - отвечал Терка, выставив свою рябую рожу в полурастворенную дверь. - Сматритель новый приехал, ачителей завтра к себе в сбор на фатеру требует в девятом часу, чтоб биспременно в мундерах были.
- Эге, вот как! Малый, должно быть, распорядительный! Это уж, капитан, хоть бы по-вашему, по-военному; так ли, а? - произнес Петр Михайлыч, обращаясь к брату.
- Да-с, точно, - отвечал тот глубокомысленно.
- Где же господин новый смотритель остановился? - продолжал Петр Михайлыч.
- На постоялом, у Афоньки Беспалого, - отвечал с какой-то досадой Терка.
- Да ты сам у него был?
- Нету, не был; мне пошто! Хозяйка Афоньки, слышь, прибегала, чтоб завтра в девятом часу в мундерах биспременно - вот что!
- Так поди обвести!
- Сегодня нету, не пойду: не достучишься... поздно; завтра обвещу.
- И то пожалуй; только, смотри, пораньше; и скажи господам учителям, чтоб оделись почище в мундиры и ко мне зашли бы: вместе пойдем. Да уж и сам побрейся, сапоги валяные тоже сними, а главное - щи твои, - смотри ты у меня!
- Ну-ко, заладил, щи да щи! Только и речей у тебя! - проговорил инвалид и, хлопнув сердито дверью, ушел.
Петр Михайлыч усмехнулся ему вслед.
Впрочем, Гаврилыч на этот раз исполнил возложенное на него поручение с не совсем свойственною ему расторопностью и еще до света обошел учителей, которые, в свою очередь, собрались к Петру Михайлычу часу в седьмом. Все они были более или менее под влиянием некоторого чувства страха и беспокойства. Комплект их был, однако, неполный: знакомый нам учитель истории, Экзархатов; учитель математики, Лебедев, мужчина вершков одиннадцати ростом, всегда почти нечесаный, редко бритый и говоривший всегда сильно густым басом. Дикообразной его наружности как нельзя больше в нем соответствовала непреоборимая страсть к звероловству. Он был, конечно, в целой губернии первый стрелок и замечательнейший охотник на медведей, которых собственными руками на своем веку уложил более тридцати штук. С капитаном Лебедев находился, по случаю охоты, в теснейшей дружбе. Третий учитель был преподаватель словесности Румянцев. В противоположность Лебедеву, это был маленький, худенький молодой человек, весьма робкого и, вследствие этого, склонного поподличать характера, вместе с тем большой говорун и с сильной замашкой пофрантить: вечно с завитым а-ла-коком и висками. Он было и в настоящем случае прилетел в своем, по его мнению, очень модном пальто и в цветном шарфе, завязанном огромным бантом, но, по совету Петра Михайлыча, тотчас же проворно сбегал домой и переоделся в мундир.
Петр Михайлыч тоже оделся в полную форму.
- Ну, вот мы и в параде. Что ж? Народ хоть куда! - говорил он, осматривая себя и других. - Напрасно только вы, Владимир Антипыч, не постриглись: больно у вас волосы торчат! - отнесся он к учителю математики.
- Черт их знает, проклятые, неимоверно шибко растут; понять не могу, что за причина такая. Сегодня ночь, признаться, в шалаше, за тетеревами просидел, постричься-то уж и не успел, - отвечал Лебедев, приглаживая голову.
- Да, да, вот так, хорошо, - ободрял его Петр Михайлыч и обратился к Румянцеву: - Ну, а ты, голубчик, Иван Петрович, что?
- Ничего-с! Маменька только наказывала: "Ты, говорит, Ванюшка, не разговаривай много с новым начальником: как еще это, не знав тебя, ему понравится; неравно слово выпадет, после и не воротишь его", - простодушно объяснил преподаватель словесности.
- Конечно, конечно, - подтвердил Петр Михайлыч и потом, пропев полушутливым тоном: "Ударил час и нам расстаться...", - продолжал несколько растроганным голосом: - Всем вам, господа, душевно желаю, чтоб начальник вас полюбил; а я, с своей стороны, был очень вами доволен и отрекомендую вас всех с отличной стороны.
- Мы бы век, Петр Михайлыч, желали служить с вами, - проговорил Лебедев.
- Именно век. Я вот и по недавнему моему служению, а всем говорю, что, приехав сюда, не имел ни с извозчиком чем разделаться, ни платья на себе приличного, и все вашими благодеяниями сделалось... - отрапортовал Румянцев, подняв глаза кверху.