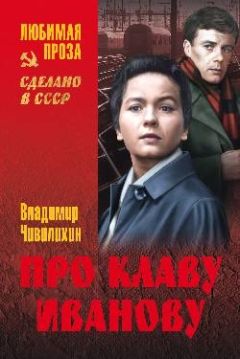Отец мой был природный пахарь,
И я работал вместе с ним...
Нет, есть в народной песне такое, что возвышает и очищает человека. Раз я засек нашего Глухаря в одной певучей компании. Видно, он совсем не страдал от того, что не слышит, ревностно следил за нами, впиваясь глазами в меня, в других, шевеля губами, покачиваясь в лад, а потом улыбался вместе со всеми, и взгляд его был теплым, со счастливой слезой. Бывают, знаете, такие лица у людей после песни - все отдашь! И она, хорошая песня-то, если ее неуменьем или озорством не испортить, может потом неделю греть...
А на массовках у нас больше частушки поют, для веселья. Так было и в тот раз, на той горькой массовке. Общежитские девчата уселись кружочком на газетах. Клава, как все, выпила стакан красного и смотрела на пляшущих деповских женщин, веселых, румяных, одетых в пестрые платья. Плясать они не умели, а просто перебирали ногами, откидывая назад руки и выпячивая груди, или, взяв друг дружку за кончики пальцев, мелко тряслись.
Одна только - крепенькая да поворотистая - выделывала своими хромовыми сапожками. Она была в юбке гармошкой и совсем прозрачной блузке.
Попереди кружева,
И позади кружева,
Неужели я не буду
Кондукторова жена?
Плясунья плавно отмахивала в стороны руками, дурашливо подкрикивала, смеялась над частушкой и над баянистом, который очень уж серьезно относился к своему делу. Он, будто невыносимо страдая, кривил лицо, отворачивал его в сторону и, надувая на шее жилы, взывал надрывным голосом:
Ты гармонь, моя гармонь
Четырехугольная!
Ты скажи мине, гармонь,
Чем ты недовольная?
Сразу несколько женских голосов, перекрикивая друг друга, отвечали ему, и Клава ничего не могла разобрать, только в конце припевки выделился чей-то визг:
Я наемся пирогу
И работать не могу!
А потом еще раз, выше и тоньше, будто перетянутая балалаечная струна: "Я наемся пирогу и работать не могу!" Клаве стало смешно, и она никак не могла успокоиться - все смеялась да смеялась. Потом она вместе со всеми пошла к патефону, где начались танцы, но как-то незаметно рядом с ней очутился Петька Спирин, прикоснулся к руке:
- Пройдемся, Клашка.
- Еще чего? - она повела плечами, оправила платье.
- Как хочешь, - равнодушно сказал Петька. - А то пройдемся?
- Пусти.
Они вроде бы спорили, а сами уже шли кустами вокруг поляны, с нее доносились взвизги и грубые мужские голоса вразнобой. Миновали березняк, в котором гулял ветер, взяли в гору.
- Будто за этим бугром моя деревня! - воскликнула Клава.
- Поглядим, - сказал Спирин.
- Да нет, - улыбнулась она извинительно и пояснила: - Это кажется только.
- Все одно поглядим.
Они поднялись до средины горы. Отсюда было видно, как уходили зеленые холмы все дальше и дальше, теряя подробности, растворяясь на горизонте в синем дыму.
- Не устала, Кланя? - Он протянул к ней руки, и она увидела, что в вырезе рубахи у него тоже сине. - Может, понесу?
- Тише! - Клава приложила палец к его губам.
- Чего там? - оглянувшись, спросил Спирин, однако рук не отнял. - Кого ты боишься? Дрожишь, как стюдень...
Они прислушались к едва слышной частушке. На поляне тот же тонкий голос выводил:
Мой миленок парень бравый,
Парень бравый, не простой,
В основном депо женатый,
В оборотном холостой!
- Понесу, может? - снова предложил Петька. - А то круто.
- Я крепкая, - сказала Клава.
- Вон ты какая.
Она, как на танцах, ощутила его сильное, будто деревянное тело. Но почему он так странно смотрит?
- Крепкая, - повторил Петька. - И с парнями?
- А я с парнями не гуляла.
- Ври!
Клава решительно крутнула головой и глянула на него, как она всегда смотрела, неосторожно, во все глаза.
- Еще ни с кем...
- Ни-о-о-о? - протянул он. - Что же мне с тобой делать?
- А что? - спросила Клава и тут же смятенно зашептала сквозь слезы: Пусти! Тебе говорят? Дурак! Не тронь!..
Новое, "комсоставское" общежитие стояло на краю поселка. Из окон его были видны лес и поселковые огороды с кучами заиндевевшей картофельной ботвы да не срубленной еще капустой. Излилась и ушла последняя туча, разъяснело. Однако все быстрее меркли дни, а долгими лунными ночами уже захолаживало. Клава знала, что в эти светлые ночи капуста вбирает в себя предзимнюю свежесть, наполняется снежной белизной и хрупом.
До депо отсюда было дальше, зато станционные звуки смягчались, глохли на расстоянии, и Клава могла спать. Только перед началом смены "кормилец" подымал ее своим властным ревом. Его было слышно, если даже целый день уходить от станции в тайгу, - Клава проверила.
Когда ей дали декретный отпуск, она стала часто бывать в замирающем лесу. Земля сделалась уже неподатливой, твердой. Под ногами, в коровьих переступах, тонко хрустели примерзиночки. Опушка была попорчена - пробита и прорежена скотом, но стоило пройти немного, и дорожки с тропками разбегались из-под ног, терялись в голых кустах: иди куда хочешь, что ни шаг, то твой.
Было блаженно тихо в этом сквозном лесу и просторно - он не загораживал белесого осеннего неба. Клава ни о чем не думала, лишь глаза ее с непонятным вниманием останавливались на полинялой траве, на пустых цветочных чашечках, на серых непахнущих муравейниках, на раздвоенных стручках акаций, завитых в черную, будто стальную, сгоревшую под резцом стружку. Тоненькие рябины бережно несли в зиму свои жарко горевшие ягоды, следы красного лета, странные в этом леденеющем лесу.
Тайга, видать, приостановила соки, до весны порвала связи с землей и солнцем, стояла недвижимо, лишь островерхие пихты медленно ходили под ветром, будто выискивали что-то в небе вершинами.
В общежитии, уже засыпая, Клава видела эти вершины. Они помогали ей даже издалека.
Шли дни, и она все реже вспоминала, как грохочут паровозы и копытят по рельсам вагоны, как под рукой оживает упругая сила, что трясет станок, как из-под сверла сыплется белая чугунная крошка.
Приходили девчата из старого общежития, и в комнате сразу становилось тесно и душно. Гости приносили безвкусные китайские яблоки из вокзального ресторана, занимали Клаву неинтересными девчачьими разговорами. Тамарка говорила, округляя глаза, и так тихо, будто Клава была тяжелобольной. А один раз, в воскресенье, зашел Глухарь - его дом стоял неподалеку. Старик занял полкомнаты, трубно откашлялся в ладонь.
- Иду из бани, дай, думаю, зайду, - заговорил он так громко, что за стенкой кто-то заворочался на скрипучей койке. - Здесь потише? А? Потише?
Клава кивнула головой и заплакала.
- Ишь ты, когда слезу пустила, - сердито сказал Глухарь, сел на стул, ссутулился и замер, только брови шевелились. - Ну поплачь, поплачь!
- Это я так, - всхлипнула Клава, забыв, что старик ничего не слышит.
- Ну будет, будет! - Он говорил отрывисто, будто бил кувалдой. Клаве показалось, что он выпивши. - Ты, главное, рожай сейчас спокойно. Ясли у нас есть...
- Страшно, - прошептала Клава, так и не вспомнив, что старик живет, как в погребе, окруженный вечной тишиной.
- Может, ты боишься? - проворчал Глухарь, начал свертывать цигарку, однако спохватился, рассыпал табак. - А ты не бойся! Тыщи рожают, и ты родишь. Такая уж судьба.
Старик попрощался. Конечно, он заглянул после бани к кому-нибудь из приятелей, выпил медовухи и потому такой разговорчивый. Судьба? А что такое судьба? Тетка говорила: "Кому на роду что написано". Где бы это прочитать, что написано про Клаву на этом самом роду? Чтобы знать наперед и покойнее жить. Неужели сама она виновата во всем? Нет, человек никогда и ни в чем не бывает виноват один! Но ведь Глухарь, кажется, и не винит ее? А как другие?
Две девушки, что жили с Клавой, приходили поздно, уставшие от своего ненормированного рабочего дня, однако и тут продолжали дневные разговоры о каких-то домкратах, о сметах и пристройках из железобетона. И Клава вспоминала чьи-то чужие слова о том, что за станком-то оно, пожалуй, и лучше: отработал свои семь часов и гуляй, можно и так заработать больше, чем с дипломом. Клава редко видела соседок, не приглядывалась к ним и не сразу научилась их различать. Одна из девушек была курящей, хотя ни разу не задымила при Клаве, в комнате. Утрами, уходя на работу, она предупредительно спрашивала:
- Может, вам надо что-нибудь?
Клава отвечала, что ничего не надо, а потом целый день мучилась - она всегда забывала поблагодарить соседку за внимание. А другая девушка вовсе не заговаривала с ней - видать, была недовольна, что Клаву подселили к ним. Эта сильно ухаживала за собой - без конца красила и перекрашивала волосы, до полночи другой раз, несмотря на усталость, терзала их перед зеркалом и прорву бумаги изводила на бигуди. Иногда, уже в постелях, соседки еле слышно перешептывались.
- А он все-таки... очень! - с выражением говорила некурящая. - Очень!
- Безусловно, это интересный человек.
- Что же ты теряешься?