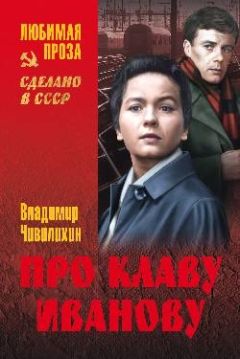- А он все-таки... очень! - с выражением говорила некурящая. - Очень!
- Безусловно, это интересный человек.
- Что же ты теряешься?
- Ему уже под тридцать.
- Ну и что же? Я бы на твоем месте...
- Оставь. У него жена и двое детей.
- Что ж с того? - звенел шепот модницы. - Я бы...
- Оставь, пожалуйста!.. Знаешь, я выйду сигарету выкурю.
- Может, встретишь?
- Оставь.
Клава уже знала, что это они об инженере из соседней комнаты, высоком костлявом человеке, немного похожем на Дон-Кихота. Раньше она обратила внимание, как инженер целыми днями смешно ходил по депо, что-то высматривая, над чем-то посмеиваясь. Носил он синюю спецовку, не по росту тесную - она тянулась на нем, и руки висели. А один раз он пришел на цеховую планерку. Стоял, потому что другие тоже стояли, хотя был свободный стул. Потом его уговорили, и он сидел на нем не как рабочие - откидывался, свивал свои длинные ноги, качался, и под ним все время скрипело и трещало.
Видно, компанию инженер не любил. В комнату к нему никто не ходил, а на соседей он совсем не обращал внимания. Через тоненькую стенку Клаве было хорошо слышно, как он утрами гремит гантелями, но все равно без толку - у него был такой вид всегда, будто он горит в чахотке. По вечерам инженер быстро шагал по комнате - три шага к двери, три обратно - либо скрипел табуреткой и гулко, словно закаляневшим на морозе бельем, гремел чертежной бумагой.
Иногда он заводил магнитофон, слышалась тихая, точно с далеких планет, музыка. Для Клавы лучшей музыкой была тишина. И она ничего не понимала, если играли на разных инструментах. Разбирала только, подо что можно было танцевать, подо что нельзя. А инженер подолгу крутил непонятное. Поневоле Клава тоже слушала, как все вместе и по отдельности играют скрипки, горны и пианино, ей временами становилось хорошо, как в лесу, и она уже с нетерпением ждала, когда сосед закончит перематывать ленты.
А неподалеку от общежития, у самого леса, объявилась небольшая воинская часть. Она прибыла совсем недавно, по первому снегу. Солдаты огородились забором, быстро поставили сборно-щитовые дома и натянули антенны. Они уже начали работать на строительстве заводика шлакоблоков, а вечерами, при фонарях, занимались шагистикой и распевали строевые песни. Как только раздавались бравые солдатские голоса, инженер менял ленту, крутил быстрые песни и подпевал на иностранном языке.
Инженер перевелся в наше депо откуда-то из России. Мы не думали, что он много наработает, - не он первый, не он последний. Новые люди никак в депо не приживаются. Из всех эвакуированных, к примеру, один я остался, да только какой уж я теперь чужой? Трудов на Переломе положил порядком, мать на жалком здешнем кладбище схоронил - она вконец свое сердце изработала, и сестренку здесь доучил до института, и друзья у меня по гроб жизни из местных.
В конце концов, где ни жить - земля кругла, и мы все перед ней равны. Но как-то незаметно я уверовал, что живу на самой приметной ее выпуклости. Почему я так считаю, сейчас расскажу.
Подрос, помню, маленько, стал понимать. И вот - еще в войну дело было слышу разговор, будто депо наше есть первое место в мире, что не откуда-нибудь, а отсюда началась Советская власть. Ну, думаю, городят огород. Будто бы в девятьсот пятом деповские создали тут первый на всей земле рабочий Совет. Не раз слышал я эту песню и все не верил. Потом, правда, и Глухарь подтвердил, что доподлинно знает это депо от верных здешних людей, которые сгинули в тридцать седьмом. А прошлой зимой я сам взялся и всех здешних стариков опросил. Они мало чего помнят, но уверяют, что действительно в пятом году наш деповский рабочий комитет уже целую неделю заправлял тут всей кашей и потом только такой Совет появился в Иваново-Вознесенске, у ткачей. О тех временах напоминает Камень, что лежит сейчас в сквере у депо, но я о нем подробней расскажу позже, к месту. А как вам нравится первый Совет? Мне здорово нравится! Даже в газету я написал об этом. Месяца три не отвечали, а потом сообщили, что переслали мое письмо ученым, на проверку. Это бы ничего, да только доведут ли они его до дела?
Еще рассказывают, как в гражданскую войну деповский отряд будто бы со своей собственной пушкой-самоделкой прошел до самой Дальневосточной республики и там, под Волочаевкой, весь полег. Или как после гражданской привезли сюда голодающих с Волги. Деповские тогда долго порожняк обрабатывали, чтоб в дело его пустить. В теплушках жила мягкая белая вошь. Ее и керосином пробовали, и кипятком. Старики до сего дня обегают площадку, где сорок лет назад они разгружали и чистили тот страшный эшелон.
А народ у нас чистый и - как бы это сказать? - привередливый, что ли. Помню, в эту войну, самую тяжкую, кабы не сглазить, последнюю, забросили к нам на Перелом американский яичный порошок. Ничего. Едим в столовке омлеты, которых никто до войны и не знал, и вот чувствуем - толку мало. Пуд его надо принять, чтобы ворочать по-военному, а тут вырезают мясной талон, дают две ложки и говорят: "Так положено". Ладно. Едим, если нет другого выхода. Но вот родился слух, что этот заморский порошок будто бы из черепашьих яиц! Все! Как отрубило. Садятся наши деповские за стол, говорят им: "Омлет". А они мотают головами - гребуем, мол. А я вместе с ними, помнится, сижу, а перед глазами голая черепаха, отвратная несибирская тварь. Пусть сейчас все это смешно и непонятно, но, пожалуйста - смейтесь и не понимайте, однако было это, куда же денешься.
Или еще, в войну же. Один бригадир с промывки, такой жмот-сквалыга, сосватал свою дочку за лейтенанта залетного и поехал под Боготол кой-какое барахлишко на муку да крахмал обменять к свадьбе. Наменял целый мешок, едва в тендер, на уголь, поднял. Едет назад в будке, довольный, табаком бригаду угощает, рассказывает про счастье дочери. А кочегар-то не берет махорку и только слушает: он за его дочкой сколь годов ухлестывал, и не по-плохому, а берег ее. И вот на полдороге возьми да и случись чудо уголь, который в топку шел, вдруг сделался белым! Бригадир заплакал, кинулся в тендер, а от мешка уже одни лохмотья. Все свадебное механический углеподатчик свертел, но бригадир все ж таки выгадал из лохмотьев портянку...
Короче, историй этих - без конца; посидишь часок в "брехаловке", уходить неохота. Они рассказываются к месту и сберегаются, я думаю, потому, что деповские скрашивают ими свои будни, сдабривают перекуры, а попутно - ненавязчиво, как бы между прочим, - дают понять молодым, как они жить должны и как не должны.
Коренной наш деповский народ - местные, постоянные и большей частью из кержаков, тех, что хоть и по-своему, но тугими узлами вяжут прошлое с будущим. Сюда эти строгие мастеровые мужики переселились давно, еще при царе, и до самой войны, говорят, держались: пить-курить себе не позволяли. В семьях у них порядок: если отец был кузнецом, то и сын к наковальне встанет, это уж говорить нечего. У нас, например, в механическом чуть ли не дюжина Ластушкиных разных семейных ветвей, и так было с самого зарожденья депо.
Мы жили своим укладом, в котором все перемешалось - старомодное почитание дедов и строгость к молодым, легенды, что лучше правды, и правда хуже всякой выдумки, грязища в цехах и февральская "снегоборьба", вечные бдения диспетчеров и обстоятельные, нудные, похожие друг на друга планерки. И была убежденность, что все это одно целое, неразрывное. Мы ревниво охраняли наши порядки - не дай бог, кто слово скажет гадкое про депо...
А новому инженеру на все это было плевать с высокой трубы. Он только смеялся, когда ему назидательно выговаривали за резкое слово на собрании или злую издевку над "деповщиной". Но я понимал наших - зачем издеваться, если люди тут здоровье гробили и саму жизнь клали?
Войну мы этой "деповщиной" и вытянули, но в последние годы приперло. Грузов по Сибири пошло как из прорвы, а депо сипело и пыхало наподобие одышной старухи, и ни с места. Новые паровозы на Перелом гнали, на трехсменку некоторые цехи перешли, как в войну, однако толку чуть - вечно ходили в дураках, как нам об этом сообщали по селектору.
Надо сказать, что инженер в первый же день сам себе здорово подгадил. Мы тянули со склада новое поршневое дышло, а он навстречу. У нас такой обычай: кто встретился в этот момент, начальник, не начальник, - помогай! А он остановился, смотрит и смеется, паразит. Ну ладно, нет совести - не помогай, обойдемся, но смеяться-то зачем? Нельзя смеяться над людьми, если они тяжелую работу работают.
Однако новый инженер кой-чего умел. Вспоминаю собрание, на котором он очень уж круто взял. Ему крикнули:
- Новый голик чисто метет!
А он встал - поджарый, голова до лампочки, - пошарил глазами в глубине красного уголка и спрашивает:
- Кто это крикнул?
Никто, понятное дело, не отозвался, только тот же голос протянул с недоумением:
- Нету таких тута...
- Жаль! - засмеялся инженер. - Я хотел этого товарища поблагодарить. Умная голова! Он мне напомнил, что надо завтра послать за метлами в лес. Каждый день теперь будем убирать цехи. Дочиста. Понятно?