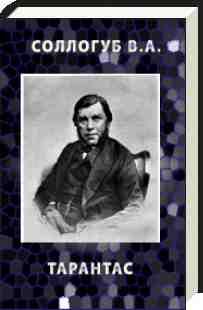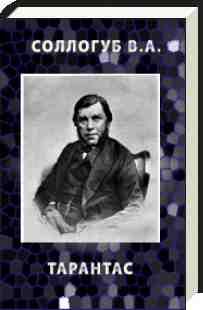— Теперь, — сказал Василий Иватюзич, — пора на боковую. Сенька! — закричал он. Вошел Сенька
— Ты обедал, Сенька?
— Похлебал, сударь, селянки.
Ну, приготовь-ка мне спать. Расставь стулья да принеси мне перину, да подушки, да халат. Видишь, Иван Васильевич, что хорошо все с собой иметь. А ты как ляжешь?
— Да я попрошу, чтоб мне принесли сена, — сказал Иван Васильевич. Сено есть у вас? — спросил он у полового.
— Никак нет-с.
— Ну, достань, братец, я тебе дам на водку.
— Извольтс-с, достать можно.
Началось приготовление походной спальни Василия Ивановича. Половина тарантаса перешла в трактирную комнату. Перина уложилась среди сдвинутых стульев. Василий Иванович разоблачился до самой легкой одежды и тихо склонился на свое пуховое ложе.
Через несколько времени половой возвратился, зацыхаясь, с целым возом сена, котооый он поверг в углу комнаты. Иван Васильевич начал грустно приготовляться к ночлегу. Сперва положил он бережно на окно девственную книгу путевых впечатлении вместе с часами и бумажником; потом растянул он свой макинтош на сено и бросился на него с отчаянием. О ужас! Под ним раздался писк, и из клочков сухой травы вдруг выпрыгнула разъяренная кошка, вероятно заспавшаяся в сенном сарае. С сердитым фырканьем царапнула она раза два испуганного юношу, потом вдруг отскочила в сторону и, перепрыгнув через стулья и через Василия Ивановича проскользнула в полуотворенную дверь.
— Батюшки светы!.. Что там такое? — кричал Василии Иванович.
— Я лег на кошку, — отвечал жалобно Иван Васильевич.
Василий Иванович засмеялся.
— Зато у тебя, брат, в кровати не будет мышей.
Желаю покойной ночи.
Мышей, точно, не было... но появились животные другого рода, которые заставили наших путников с беспокойством ворочаться со стороны на сторону.
Обa молчали и старались заснуть.
В комнате было темно, и маятник стенных часов уныло стукал среди ночного безмолвия. Прошло полчаса.
— Василий Иванович!
— Что, батюшка?
— Вы спите?
— Нет, не спится что-то с дороги.
— Василии Иванович!
— Что, батюшка?
— Знаете ли, о чем я думаю?
— Нет, батюшка, не знаю.
— Я думаю, какая для меня в том польза, что здесь потолок исписан разными цветочками, персиками и амурами, а на стенах большие уродливые зеркала, в которых никогда никому глядеться не хотелось. Гостиница, кажется, для приезжающих, а о приезжающих никто не заботится. Не лучше ли бы, например, иметь просто чистую комнату без малейшей претензии на грязное щегольство, — но где была бы теплая кровать с хорошим бельем и без тараканов: не лучше ли бы было иметь здоровый, чистый, хотя нехитрый русский стол, чем подавать соусы патиша, потчевать полушампанским и укладывать людей на сено, да еще с кошками?
— Правда ваша, — сказал Василий Иванович, — по-моему, хороший постоялый двор лучше всех этих трактиров на немецкий макер.
Иван Васильевич продолжал:
— Я говорпл и вечно говорить буду одно: я ничего не ненавижу более полуобразованности. Все жалкие и грязные карикатуры несвойственного нам быта не только противны для меня, но даже отвратительны, как уродливая смесь мишуры с грязью.
— Эва! — заметил Василий Иванович.
— Гостиницы, — продолжал Иван Васильевич; — больше значат в народном быте, чем вы думаете. Они выражают общие требования, общие привычки. Они способствуют движению и взаимным сношениям различных сословий. Вот в этом можно бы поучиться на Западе.
Там сперва думают об удобстве, о чистоте, а украшение и потолки последнее дело... Василий Иванович!
— Что, батюшка?
— Знаете ли, о чем я думаю?
— Нет, батюшка, не знаю.
— Я хотел бы устроить русскую гостиницу по своему вкусу.
— Что ж, батюшка, за чем дело стало?
— Это так... предположение, Василий Иванович... по я уверен, что гостиница моя была бы хороша, потому что я старался бы соединить с первобытным характером русского жилья все потребности уюта и мелочной опрятности, без которых просвещенный человек теперь жить не может. Во-первых, все эти испитые, ободранные, пьяные половые, жалкое отродие дворовых, будут изгнаны без милосердия и заменятся услужливыми парнями на хорошем жалованье и под строгим надзором. Внутри комнат стены будут у меня дубовые, лакированные, с резными украшениями. На полу будут персидские ковры, а кругом стен мягкие диваны... Да, очень не худо, знаете, вот этак против кровати устроить большой восточный диван, — продолжал Иван Васильевич, переваливаясь с беспокойством на колючем сене... — Я очень люблю мягкие диваны. Вообще я думаю, что устройство комнат наших предков имело много сходства с устройством комнат на Востоке... Как вы об этом думаете?..
— Василий Иванович! Василий Иванович! А?.. Что?..
Как?.. Спит, — заключил с досадой Иван Васильевич, — ему хорошо на перине, а мне, пока моя гостиница не будет готова, все-таки должно проваляться всю ночь на сене!
Рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал, как читатель уже знает, отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования. Ему это казалось совершенно возможным, во-первых, потому, что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения, во-вторых, потому, что он России не знал вовсе. Итак, рано утром, с любимой мыслию в голове, отправился он бродить по Владимиру. Прежде всего он отправился в книжную лавку и, полагая, что и у нас, как за границей, ученость продается задешево, потребовал «указателя городских древностей и достопримечательностей». На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод «Монфермельской молочницы», сочинение Поль-де-Кока, важнейшую, по его словам, книгу, а если не угодно, так «Пещеру разбойников», «Кровавое привидение» и прочие ужасы новейшей русской словесности.
Нe удовлетворенный таким заменом, Иван Васильевич потребовал по крайней мере «Виды губернского города».
На это книгопродавец отвечал, что виды у него точно есть, и что он их дешево уступит, и что ими останутся довольны, но только они изображают не Владимир, а Цареград. Иван Васильевич пожал плечами и вышел из лавки. Книжный торговец преследовал его до улицы, предлагая попеременно новые парижские карикатуры с русским переводом, «Правила в игру преферанс», «Новейший лечебник» и «Ключ к таинствам природы».
Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Даром что он читал некогда историю; но он ничего твердого к определительного удержать из нее не мог. В голове его был какой-то туманный хаос: имена без образов, образы без цвета. Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? Что тут делалось? — кто может это теперь рассказать? Иван Васильевич осмотрел золотые ворота с белыми стенами и зеленой крышкой, постоял у них, поглядел на них, потом опять постоял да поглядел и пошел далее. Золотые ворота ему ничего не сказали. Потом он пошел в церкви, сперва к Дмитриевской, где подивился необъяснимым иероглифам, потом в собор, помолился усердно, поклонился праху князей... но могилы остались для него закрыты и немы. Он вышел из собора с тяжелою думою, с тяжким сомнением... На площади толпился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками; в гостином дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих; из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами; в каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят... Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силою переделать нельзя; он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за двугривенный, а должна приобретаться неусыпным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где так мало следов и памятников, там в особенности, где нравы изменяются и отрезывают историю на две половины, прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых.
Такая грустная истина останавливала Ивана Васильевича в самом начале великого подвига. Он решился выкинуть из книги путевых впечатлений статью о древностях и пошел рассеяться на городской бульвар. Местоположение этого бульвара прекрасно: на высокой горе, над самой Клязьмой. Вдали расстилается равнина, сливаясь с небосклоном. Иван Васильевич сел на скамейку и начал задумчиво глядеть в даль, неопределенную и туманную, как судьба народов. Он долго думал и не замечал, что какой-то господин, отвернувшись к нему спиной, сидел с ним на одной скамейке и тоже размышлял, насвистывая какой-то итальянский мотив.