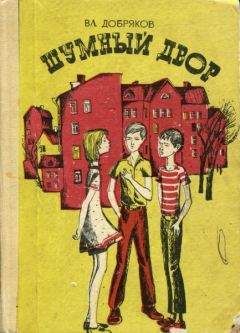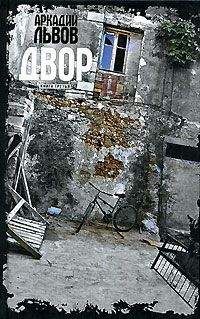Ведь я же его видел, и ко всем моим бедам одиночества моего заточения присоединился страх, страх снова увидеть эту рожу. Потом я вспомнил, где видел эту страшную подкроватную рожу – в зеркале.
А от моей занудной аккуратности меня отучили в пионерском лагере. Как-то в столовке за завтраком один из пацанов, сидевший напротив меня, вдруг расхохотался и указал на меня пальцем: «Смотрите, как ест, даже губы не испачкал». Я, признаться, до этого никогда не задумывался, как я ем, испачканы ли у меня губы или нет, но, взглянув в его лицо, увидел, что у него они жирно смазаны сливочным маслом, которое полагалось с утра нам к манной каше: каждому выкладывали по маленькому прямоугольному брикету на кусочек белого хлеба, который всегда лежал на тарелке рядом с кашей. Поняв, что я веду себя как-то не по-пацански, с этого дня стал стараться есть так, чтобы не только губы, но и половина рожи у меня была в масле или на крайний случай хотя бы в крошках. И, надо сказать, изрядно в этом преуспел: до сих пор получаю от жены подзатыльники за крошки на столе и на полу.
Летом, когда это удавалось, меня с сестрой на пару мать пристраивала на дачу к бабе Гермине, но надолго бабуля нас в том возрасте, когда детишки требуют ухода к себе, не забирала. В школьном возрасте я там жил частенько и в дошкольные годы, судя по сохранившимся фотографиям, бывал, но не помню этого совершенно, как отрезало, бывал нечасто. Пару раз мать отвозила нас на лето на родину в Мордовию, в большое русское село Базарная Дубровка, к нашей второй бабушке Маше и деду Михаилу. В первую мою поездку я был ещё додетсадовского возраста и воспитания, что очень помешало моей адаптации к деревенской жизни. Дело в том, что баба Маша, удивительной доброты, простоты и такта русская женщина, готова была принять нас и на лето, да и, наверно, хоть навсегда, но не предполагала, что поначалу нам надо как-то помочь организовать нашу деревенскую жизнь. Сестра моя, поскольку была старше почти на три года, адаптировалась быстро, чего нельзя было сказать обо мне, хотя это касалось всего одного, но очень важного пункта. Дело было в том, что мать, привезя мой ночной горшок, по приезду вручила его бабе Маше, сказав: «Мам, поставь в сенях, он всё уже сам делает, ты вечером только проверь – если он дело сделает, выкинь всё и горшок ополосни». Бабуля заверила, что всё будет в полном порядке, но после отъезда маменьки, разглядев врученный ей предмет, поняла, что это полная блажь – гадить в великолепный обливной горшок, новенький, без единого скола, с ручкой и крышкой. И, как рачительная хозяйка, спрятала его подальше, справедливо полагая: куда он денется, славный её внучек – обосрётся как-нибудь, будь он здоровеньким. Так и произошло и происходило весь мой первый недолгий срок пребывания в селе Базарные Дубровки. В селе был наверно какой-то совхоз или колхоз, но я не помню, чтобы бабушка уходила куда-то на работу, скорее всего она была уже на пенсии по старости, но забот и работы по дому ей хватало на весь день с лихвой: корова, овцы, птица, огород, поэтому с нами она не нянькалась, да и не было в деревнях такой привычки – сыты, здоровы, и слава Богу. Утром она оставляла нам на столе кувшинчик с молоком, накрытый чистой тряпочкой, хлеб из сельской пекарни. Хлеб был каким-то очень грубым, на мой вкус, но голод не тётка, и довольно быстро я к нему привык. В обед и ужин помню кашу, как правило гречневую, с молоком по желанию. Изредка делала яичницу, пекла блины в сковороде на лучине и даже варила какие-то овощные похлёбки. В общем, от здорового деревенского питания моя пищеварительная система работала как часы, но я никак не мог найти горшка, а опорожняться сидя на корточках я не умел, точнее мне никто не показал, как это делать, а сам, видно, в силу природной дубоватости до этого не допёр. Поэтому я просто терпел сколько мог, по несколько дней, но в какой момент природа брала своё и я опорожнялся прямо в штаны, а так как бегать или играть в портках с таким «добром» было весьма неудобно, я просто снимал их и прятал под дом, а сам шёл просить у бабки другие штаны. Запас штанов быстро иссяк, и я остался с голым задом в самом прямом понимании этой фразы. К счастью, на мою удачу в деревню приехала мама – не помню: то ли навестить нас, то ли по какой-то надобности. Удивившись критике со стороны бабы Маши насчёт малого количества штанов, выданных мне на лето, она стала допытываться у меня, куда я их дел. Я молчал, как пионер-партизан на допросе, тогда она произвела шмон, отыскала мои портки под домом, тщательно изучила их и с удивлением спросила меня, что я такое вытворяю. Я ответил как есть, что без горшка я не могу. Она мне: «Так горшок же я привезла». Я ей: «Я не могу его найти». Тут она спрашивает бабушку: «Мам, а где горшок?» Бабуля ей в ответ: какой горшок, не помню, не знаю. В итоге горшок был найден, но, поразмышляв, маманя моя решила забрать меня в Москву.
Перед возвращением в московское заточение она решила меня хорошенько отмыть, поскольку везти такого засранца в столицу не представлялось возможным. Осуществлять задуманное она отправилась в общественную деревенскую баню, там был женский день. Маменька меня растелешила, привела в моечное отделение, намыливала, тёрла грубой мочалкой, окатывала горячей водой – и так несколько раз, потом посадила на лавку и велела ждать, пока она помоется сама. Внимания на нас никто не обращал, брать детишек с собой в баню было делом обычным. Сидеть на лавке мне надоело, и я пошёл гулять по бане, в воздухе висел туман, было жарко, света было мало, стоял полумрак, но то, что я увидел, меня поразило. Кругом стояли, сидели, ходили, таскали воду в тазах, намыливались, обливались водой абсолютно голые женщины, при этом все они говорили друг с другом, перекрикивались из разных концов зала мыльной, хохотали, были слышны звуки плещущейся воды, стук тазов, шлепки по телу и босыми ногами по полу – в общем, стоял гвалт. Я ходил между ними и разглядывал, обнажённых женщин я видел впервые. Больше всего меня удивляла округлость форм, все они были какие-то выпуклые, бёдра, зады, груди,