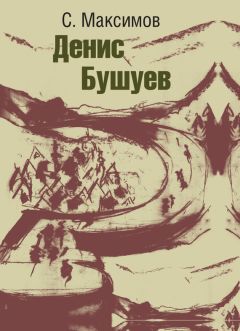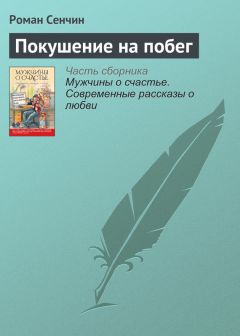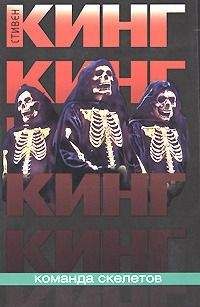Но Финочка ничего хорошего не видела. Она грустно стояла, опустив руки и наклонив голову.
Густомесов быстро сбросил пиджак, разостлал его на мягком мху, расправил шелковую подкладку, сел на край пиджака и, показывая на место рядом с собой, тихо предложил:
– Садись и ты, Финочка…
Охваченная смутным беспокойством, Финочка продолжала стоять, тревожно смотря на Бориса Евгеньевича. Тогда он вскочил, схватил ее за плечи и почти насильно усадил. Красивые глаза его как-то странно блестели, руки дрожали…
– Что с вами, Борис Евгеньевич? – удивилась Финочка. – Вы зубами стучите, словно в лихорадке.
– Это ничего… просто так… холодновато чуточку, – ответил он глухим, незнакомым голосом.
– Так пройдемте на солнышко! – предложила Финочка. – Сразу согреетесь. Пойдемте!
– Потом, не сейчас… Скажи, пожалуйста, тебя кто-нибудь видел, когда ты сюда шла?
– Кажется, никто не видел.
– Ну и хорошо… А теперь, Финочка, мы с тобой того… закусим.
Он нервно расстегнул портфель, перевернул его и вытряхнул на землю несколько плиток шоколада, две банки сардинок, бутылку ликера и какой-то объемистый сверток. Финочка испуганно вскочила и умоляюще посмотрела на него.
– Зачем это?.. Пойдемте отсюда, Борис Евгеньич… Все это как-то нехорошо. Вина я не пью… Еще ни разу в жизни не пила…
– А ты попробуй… это так приятно… Ах, какая ты глупенькая, право… Вот в Москве… там все девушки пьют вино… и… и это не считается чем-то плохим… даже наоборот… стыдно, если девушка не пьет… значит, она плохо воспитана… и… не интересна в обществе… – путаясь в словах и заикаясь, проговорил Густомесов.
– Ну так это в Москве… – уныло сказала Финочка.
– А не хочешь вина пить – посиди так… Я ведь не настаиваю… Да садись, пожалуйста…
Финочка нерешительно села. Он крепко обнял ее за талию. Она попыталась было отвести его руку, но он еще крепче обнял ее. Тогда она рванулась всем телом, инстинктивно почувствовав опасность. Он прижал ее дрожащее тело к себе и впился сухими губами в пухленькие губки Финочки… Она откинула голову и замерла от страха, увидев перед собой незнакомое, бледное и искаженное лицо.
– Пустите, Борис Евгеньевич…
– Глупенькая… ты не понимаешь… – зашептал он, обжигая ее губы горячим дыханием.
– Пустите! – крикнула в исступлении Финочка. – Пустите!.. Мама… мамочка…
Но он уже не слышал ее и рвал на ней одежду. И странная, непонятная слабость охватила ее…
Допоздна лежала Финочка на сыром от вечерней росы мху. Она видела над собой тусклые синие звезды, – видела и не сознавала, что это звезды и что уже давно наступил вечер. Плакать она не могла больше – все слезы были выплаканы, она только тихонько всхлипывала, словно раздавленный телегой щенок. А когда мысли несколько прояснились, она привстала, удивленно посмотрела вокруг, вспомнила все опять, вспомнила до мельчайших подробностей, ужасных и мучительно стыдных, и снова повалилась на сырой мох, и забилась в рыданиях.
Свежело. Из оврага пополз туман. Набежал ветерок и прошелестел листвой осинок. В чаще ельника захлопал крыльями косач.
Финочка встала, провела рукой по лицу и пошла, как слепая, спотыкаясь и падая, к Волге. Присев на камушек и все еще всхлипывая, она сняла с себя изорванное платье и долго полоскала его в теплой и черной, как смола, воде. И снова надев его, чуть выжатое, влажное, она пошла в село, еле передвигая непослушные ноги.
Подымаясь возле пристани в гору, она вдруг почувствовала страшную усталость и бессильно опустилась на гнилые ступеньки старенькой часовни с забитыми окнами. Обняв витой столбик перил, она прижалась к нему лицом и зажмурила глаза. И снова, как кошмар, всплыли воспоминания.
На кремнистой тропинке послышался хруст камешков под чьими-то твердыми шагами, кто-то спускался с горы. Финочка подняла тяжелые, словно налитые свинцом, веки.
– Кто здесь? – спросил знакомый до боли голос, и Финочка сразу узнала Дениса, а узнав его, она вскочила, бросилась ему на грудь, обхватила руками его спину да так и замерла, не в силах произнести ни слова.
– Финочка! – удивленно сказал Бушуев, отстраняя ее от себя и заглядывая ей в лицо. – Чего ты здесь? Что с тобой?..
Но она ничего не ответила, только еще крепче прижалась к нему. Он усадил ее на ступеньки часовни, сел подле нее и опять спросил:
– Да что с тобой?..
Финочка искоса посмотрела на него, провела рукой по лицу, точно паутину сняла, и, глотая вновь выступившие невесть откуда слезы, дрожащим голосом рассказала все, что произошло в лесу. Слушая ее, Бушуев чувствовал, что бледнеет. И незнакомая, тяжелая злоба подступила к сердцу, перехватывая дыхание.
Путано и неуклюже успокоив Финочку, он провел ее на пароход, оставил в своей каюте, запер каюту на ключ и быстро пошел в село, чувствуя, как стучит в висках кровь и как дергаются уголки крепко сжатых холодных губ. Все свое, личное отошло куда-то на второй план, стало маленьким и незаметным. В эти минуты Денис думал только о Густомесове, даже о Финочке не вспоминал он. И все мышцы тела натягивались в нем, как струны. И казалось ему, что чужой пришелец оскорбил не Финочку, а их – Дениса и Финочки – родину, их землю, их жизнь… И за это тяжкое и незаслуженное оскорбление, за это поругание – пусть дикой, но девственной и чистой земли, родной и кровной – вот за это-то пришелец и должен понести наказание.
Обогнув убогонькую хату печника Солнцева, Бушуев свернул в проулок и, подойдя к дому тетки Таисии, взбежал на крыльцо и громко постучал в рассохшуюся дверь. Но ему никто не ответил. Тогда он забарабанил кулаком изо всех сил, холодея от мысли, что Густомесов уже уехал в Москву.
– Чего стучишь? – недовольно спросил чей-то женский голос из окна соседнего дома. – Тетки Таисии нету дома… к зятю уехала, в слободу…
– А этот… жилец их, где он? – заикаясь, спросил Бушуев.
– Жилец?.. А кто ж его знает. Может – на Волге? Он по вечерам все на Волгу ходит, с полотенцем…
Бушуев сбежал с крыльца и, спотыкаясь о корни берез, зашагал к Волге. Свернув с дороги, он пошел по узкой тропинке вниз, к берегу. В конце проулка, слева, стоял обруб – нечто вроде террасы со скамейкой, где находили себе приют в теплые летние вечера влюбленные парочки, справа шел забор потаповского сада. Впереди чернела Волга, пересеченная серебристым ножом луны.
Бушуев миновал обруб и в нерешительности остановился. Теперь ему хорошо был виден весь берег. Густомесова на берегу не было.
– Бушуев! – вдруг крикнул кто-то сверху. – Любуемся природой? Природа – пища для поэта, сказал какой-то виршеплет средневековья. Вы на луну-то взгляните… Ведь эдакая прелестница!
Бушуев поднял голову и увидел на обрубе Густомесова. Он сидел на скамейке, и на плече его белело полотенце. Боясь, что Густомесов убежит, Бушуев прямо по крапиве, без тропинки подошел к обрубу, уперся руками в гнилые бревна и легко, одним махом вскинул свое тяжелое тело на обруб и молча стал перед Густомесовым, прерывисто дыша и склонив набок белокурую голову. Густомесов, тихо постукивая зубной щеточкой по тюбику с пастой, приподнял тонкие, в цепочку, брови и недоуменно посмотрел на него.
– Что это вы… – начал было он, но тут же умолк, перестал стучать щеточкой и насторожился.
Бушуев молчал, он не мог вымолвить ни слова. Густомесов почувствовал опасность, медленно поднялся и попятился к стене обруба. Бушуев молча ступил еще два шага ему навстречу. Густомесов опять попятился и уперся спиной в стену – отступать дальше было некуда. И он закричал, стараясь криком заглушить страх.
– Да в чем дело? Что вам от меня нужно?
Бушуев выдохнул спиравший грудь воздух и негромко спросил, четко и раздельно произнося каждое слово:
– Что ты сделал с Финочкой?..
– Я?.. Па-азвольте! Какое вы имеете право…
– Ты еще спрашиваешь, какое я имею право… – прошептал Бушуев, надвигаясь на него всем своим громадным телом.
– Па-азвольте!..
Бушуев почувствовал, как остановилось сердце и как запрыгали, задрожали щеки…
– У-у… дрянь московская!
Он размахнулся и ударил кулаком Густомесова по лицу. Густомесов тихо охнул, присел на корточки и сжал руками голову. Бушуев пнул его кожаным сапогом и сбросил с обруба вниз на кучу камней, заросших крапивой и лопухом. Густомесов шлепнулся наземь и затих. И в ту же секунду от угла забора метнулась в кусты тальника чья-то тень. Денису показалось, что это была тень Гриши Банного. Бушуев постоял еще немного над Густомесовым, смачно плюнул, крепко выругался и неторопливо пошел на пристань.
По дороге его осенила одна тревожная мысль. Он вспомнил слова Густомесова: «какое вы имеете право?..» В самом деле, какое он, Денис, имеет право выступать в качестве защитника оскорбленной девушки? Отомстить за нее мог Вася Годун, дед Северьян, наконец – Алим, люди, у которых чиста совесть, но только не он. И от этой мысли ему стало жутко. Он вспомнил виноватое, бледное и искаженное лицо Густомесова и похолодел, представив на секунду таким же свое лицо там, на берегу, когда хлыст деда Северьяна взвился над ним.