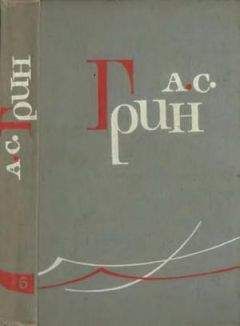Единственный для меня способ достать денег был таков, продать что-нибудь из вещей. Я продал на базарном толчке за два рубля свою новую ученическую куртку, ремень с медной бляхой городского училища, серые полубумажные брюки, болотные сапоги. Едва ли выручил я за всё двенадцать – пятнадцать рублей. Взамен я приобрел парусиновые штаны, белую матроску с синим воротником, тельник и ношеные башмаки, но не решился купить фуражку с лентой, считая, что не имею на то нравственного права, а потому ходил в соломенной шляпе. В отношении расхода своих грошей я вел себя еще глупее: несколько раз тратил в парке по тридцать – пятьдесят копеек на стрельбу в тире из монтекристо, по пять копеек за выстрел (хотя сбил, однако же, шарик фонтанчика), то покупал апельсины и хорошие папиросы, то ходил обедать в «Обжорку».
На конце Карантинной улицы, против Ланжероновского спуска, находилось каменное здание с открытыми дверями, откуда шла вонь кухни и грязи, – знаменитая босяцкая столовая, прозванная «Обжоркой»; за ее задней стеной на кучах мусора, жили «дикари» – окончательно голые босяки, пропившиеся дотла.
Внутри, за обитыми цинком столами, сидел на скамьях массовый посетитель этого заведения босяки, грузчики, бродяги и пьяницы.
Борщ в фаянсовых мисках, с хлебом и требухой, отравленный красным перцем до слез в глазах и до ощущения в горле каленых углей, стоил шесть копеек; три копейки стоили макароны в бараньем сале, печенка или каша.
Поев, я шлялся в порту безрезультатно, всходя на палубы судов с предложением взять меня матросом, кочегаром или угольщиком; сидел в библиотеке, читая что-нибудь, или томился на скамьях бульвара.
Постепенно я ознакомился с гаванью. В Карантинной гавани были пристани Русского общества пароходства и торговли. Не помня теперь названия молов, я знал тогда, где стоят угольщики частных владельцев, пароходы Российского общества транспортов, где останавливаются нефтеналивные пароходы «Блеск» и «Свет», другие, кажется, «Айтер», «Гранвилль», «Боржом». Кому принадлежали они, я не знаю; кажется, надо думать, Русскому обществу П. и Т. Огромные пароходы Добровольного флота «Саратов», «Петербург», «Воронеж» и другие – приваливали к соседнему с Карантинным молу.
Вдоль набережной шел ряд парусников. Здесь стояли кормой к берегу греческие и турецкие суда – плоские, с широкой кормой и косыми парусами, часто цветными. Эти суда поражали грязью и яркостью нелепо безвкусной окраски голубая, желтая, зеленая, красная краски мешались и их очертаниях. Под бушпритом этих фелюк висели наклонно деревянные фигуры ангелов, голых женщин, грифов и нептунов. В чалмах, фесках, обшитом золотом грязном тряпье бродили на палубах смуглые моряки архипелага. Фелюки напоминали грязную скотину; я не любил их, так же как не любил длинную цепь русских парусных шкун и «дубков», заполнявших огромную набережную на дальнем конце гавани. В сравнении с отчетливостью, разумным и красивым видом пароходов, а также больших парусных судов, стоявших на рейде, эти парии моря отталкивали меня, – я редко бывал в дальнем конце гавани, больше всего слоняясь между Карантином и волнорезом.
Здесь был мир иностранных грузовых пароходов – огромных и спокойных чудовищ, большею частью серого и тёмного цвета. Впоследствии я узнал, что побирающийся и безработный матрос всегда получит у иностранцев белых галет, пачку табаку, кусок мяса. Но я, когда побирался, к иностранцам не заходил, мне было, должно быть, совестно, объяснить знаками голод.
Территория порта была прорезана рельсовыми путями, окаймлена угольными и токарными складами. Ночью порт ярко озаряли торжественным белым светом душные фонари. Над земными рельсами шел воздушный рельсовый путь-эстакада, высокий помост, с которого из загонов грузились на пароходы хлеб и другие товары. Ночью грохот гавани замирал, но уже с раннего утра слышались крики грузчиков. «Вира! Майна! Хабарда (берегись!)», полуголые, в широких, до щиколотки штанах и грязных фесках работали на пристанях артели турок, называемых «агибалами», «агибалками».
Каменные сортиры у входов на молы распространяли едкий запах карболки и хлорной извести. Теперь, насквозь, прокуренный, я утратил остроту обоняния, но тогда все запахи гавани – камня, угля, железа, морской воды и нечитом – резко возбуждали меня.
Я выкупался один раз у основания мола, против лестницы (не знал, где надо купаться), на глазах у сбежавшейся к пароходу публики, и нашел, что морское купанье неинтересно. Вода была холодна, тяжела, на вкус солона и лекарственно горька. Хорошо видимое дно было здесь усеяно камнями, тряпками и жестянками. Впоследствии я купался за волнорезом и, войдя во вкус, купался раз по пяти в день, научившись недурно плавать.
С закатом солнца на Карантинной улице начиналось вечернее беснование. Среди вони подгоревшего масла, пьяных растерзанных женщин, собак, среди грязной брани и рева детей, вдоль тротуаров, на тумбах, скамьях, у решеток подвалов располагалось рабочее население – грузчики, поденщики, босяки – с закуской и водкой. Одурев, большинство их расходилось по ночлежкам, остальные – в свои углы. Утром по глубоко лежащей мостовой с мостиками вверху, соединяющими края Карантинной балки, медленно ползли вниз вереницы подвод, запряженных парой волов, таща кладь, животные шагали крупно, шевеля трущее им загривки ярмо и ворочая головами с видом угрозы. «Цоб-цобе!» – кричали возчики, пуская иногда в дело тяжелый кнут.
Я прожил в подвале дней десять. На третий день, как я появился здесь, одно купанье едва не стоило мне жизни, а впоследствии причинило много неприятностей.
По всему маячному молу (волнорезу, ограждающему море от бухты) проходит толстая стена с сквозными нишами и внутренними лесенками, ведущими на верх стены. Наружная, то есть внешняя, сторона мола окаймлена неправильно торчащими массивами – кубическими камнями искусственного происхождения (смесь гальки и цемента), каждая грань камня – саженной длины. Здесь спокойная вода будет по шею купальщику среднего роста.
Однажды в пасмурный ветреный день я заплыл довольно далеко от мола, не обращая внимания на поднявшееся волнение. Издали уже видел я, что мол опустел; белые взрывы воды кидались к стене, перехлестывая через массивы. Обеспокоенный, я пустился обратно и, приплыв близко к камням, очутился во власти волн. У берега волны были так велики, что, перехлестывая через массивы, били о стену Отхлынув на момент, море просторно обнажало песок; я, вырвавшись из воды, бежал к массивам по дну более десяти шагов, едва я ухватывался руками за верхний край массива, чтобы подняться и выбраться, как – даже если я уже лежал на массиве животом, еле дыша, – убегающая волна смывала меня, несла далеко назад и снова мчала вперед.
Мгновениями я не видел света, так как тонул с головой. Я почти лишился дыхания, наглотался соленой воды и после, пожалуй, получаса избиения водой о камни, был вклинен особенно сильным валом между стеной и массивом. Чуть отдышавшись, я отполз, крепко цепляясь за камень, к ближайшему проходу и ногой очутился по ту сторону опасности, которая была велика.
Одежду мою унесло, смыло водой, руки и ноги кровоточили, ссадины ныли, голова болела от удара о камень. Я подобрал тряпку и, прикрывшись ею, несмело пошёл вдоль набережной. Прохожие сурово отнеслись к такому костюму; некоторые ругались. Узнав, в чем дело, один грузчик сжалился надо мной и дал несколько хлопковых покрышек, сорвав их крюком с тюков. Кое-как обмотавшись, я добрался домой, где один сожитель отдал мне развалившиеся опорки и старую кепку. У меня были старые штаны, моя матроска осталась дома (так как я вышел купаться в сетке), и я снова оделся.
Через день я заметил на левой ноге, спереди, между ступнёй и коленом, две небольшие язвочки, такая же такая же появилась на правой ноге. Особенно не беспокоясь, я ходил каждый день купаться, соленая вода разъедала язвы, и дней через пять образовались три обнаженных места воспаленного гноящегося мяса, величиной в монету в две копейки. Вокруг них при нажиме на теле оставались ямки, как в мякише. Я сходил на больничный прием, там я получил бинты и йодоформ.
Запах от этого лекарства, особенно при жаре, был таком, что жильцы и хозяева-евреи стали посматривать на меня «со значением». Один старый бродяга, промышлявший ловлей бычков и сбором старого железа, заметив, что я делаю во дворе перевязку, прочёл мне ужасную лекцию. Он заявил, что «это» кидается на голову, идёт по спине, забирается в кости и разрушает желудок. Короче, он подозревал люэс. Напрасно я уверял его, что «это» не может быть, он продолжал пугать, и я вдруг поверил ему, потому что не знал медицинских указаний о природе сифилиса. Меня обуял страх; шатаясь, я бессмысленно пошёл через двор и упал в обморок.
Меня привели в помещение, а вечером хозяйка заявила мне, что такого больного она держать на квартире не может, – у ней дети, жильцы в претензии и т. д.