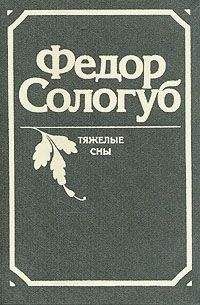— Стыжусь сам, знаю, что раскис, да что делать с нервами? Расшатался совсем, — сижу и плачу. Вдруг зовут! Воскрес и лечу! И вот опять с друзьями!
— С друзьями, Лешка-шельма, с друзьями! — закричал Свежунов и обнял Молина, — ничего, не унывай, действуй в том же направлении!
— Поздравляю, енондершиш, — говорил исправник, — вас любят в обществе, — это умилительно!
Всякий старался сказать Молину что-нибудь утешительное, приятное. Его посадили к дамам, кормили пирогом, подливали то водки, то вина. А мальчишки задували себе развеселые песни. В антрактах пили чай, ели сладкие булки, — все от щедрот Мотовилова.
Раздался стук ножа по стакану. Кто-то крикнул:
— Т-с! Алексей Иваныч хочет говорить! Все замолчали. Молин поднялся и начал раскачиваться в ту сторону, где Мотовилов. Заговорил:
— Алексей Степаныч! Вы для меня сделали, прямо скажу, благодеяние. Ну, я человек не хитрый, красно говорить не умею, — что чувствую, прямо, по-мужицки, по-простецки… Да что тут говорить! Эх, прямо сказать: спасли! Дай вам Бог! На многая лета! За здоровье Алексея Степаныча, — ура!
Все закричали, повскакали с мест чокаться. Мотовилов и Молин обнимались, целовались.
После завтрака вытащили фисгармонику, под звуки которой распевали ученики, и пустились танцевать, — шумно, с хохотом, шалостями, вознёю: кавалеры кривлялись и неровно подергивали дам, дамы взвизгивали. Две бойкие барыньки овладели застенчивым юношею, сельским учителем. Он не умел танцевать; ему дали даму, сказали, что танцуют кадриль, и стали перепихивать его из рук в руки. Юноша горел от смущения и неловко топтался. Было весело и пьяным и трезвым.
В антрактах между танцами мальчуганы продолжали крикливый концерт. Им любопытно было посмотреть на веселые танцы: они не скучали и с удовольствием глотали пыль, летевшую в их наивно открытые ртишки. Их щеки горели, глаза смеялись. Их регент, дьякон, тоже подвыпил. Пришел в благодушное настроение и не теребил певчих. Во время пения и во время танцев одинаково бестолково махал руками и добродушно покрикивал:
— Ах, мать твоя курица! Но, но, миленькие, валяй напропалую! Во что матушка не хлыстнет!
Пожарский и Гуторович ходили обнявшись и напевали легкомысленные песенки.
Крикунов тоже раскис, без устали молол жиденьким, гаденьким голосенком сальные анекдотцы и замазывал их рыхлым смешком. Оказалось, что запас этой дряни у него велик. Память у него была хороша, особенно на мелочи и пустяки.
Молин, опьянелый от водки и от избытка чувств, подходил к певцам, целовался с ними, мямлил трогательные слова. При этом детские лица делались испуганными, каменели. Кому приходилось целоваться, открывали глаза, вытягивали губы, принимали глупый, оторопелый вид; потом обдергивали блузы, виновато озирались, смущенно крутили пальцы, а носы их против воли морщились от противно-перегорелого запаха водки и от того особого тепловато-аптечного аромата, которым был пропитан Молин, как все эти мужчины, которые, подобно ему, вечно возятся с лекарствами против секретных болезней.
От мальчиков Молин переходил к девицам и непослушным языком говорил неповоротливые любезности. Валя вздумала пококетничать. Это разлакомило и разнежило Молина— Охватил ее талью потною рукою. Она с громким хохотом отстранилась. Молин вдруг запустил широкую лапу за лиф Валяна платья. Лиф затрещал. Валя неестественно громко взвизгнула. Ее голос покрыл все звуки шумного веселья. Убежала в другие комнаты чиниться. Молин было за нею. Удержали.
Молин еще долго путешествовал из комнаты в комнату. Наконец ослабел, рухнул в зале на пол и мгновенно заснул. Гомзин говорил сторожу, тоже сильно пьяному:
— Послушай, Михей, ты ему подушку достань.
— Нет у мена теперь подушки, — отвечал Михей-
— Ну вот! Ты сходи к Галактиону Васильевичу и спроси, — убеждал Гомзин.
— Какая теперь подушка! — резонно говорил Михей. — Разве можно им теперь подушку подложить? Голова у них теперь тяжелая! Разве можно их теперь беспокоить? Бог с ними, пусть выспятся.
— Так нельзя, ты говоришь? — спросил Гомзин.
— Известно, нельзя. Сами изволите знать, — человек тяжелый, как им теперь подушку? Да помилуйте, да так им много лучше, потому в прохладе.
Мальчишки затянули: "На заре ты ее не буди". Кто-то догадался наконец прогнать их по домам.
Днем, когда Шестова не было дома, пришел Молин. На звонок отворил Митя. Молин спросил:
— Дома Шестов?
Мальчик опасливо посмотрел и ответил:
— Нет его. Мама дома.
Молин вошел в гостиную, сел на кресло. Митя пошел за матерью в кухню. Молин от нетерпения топал ногами. Наконец пришла Александра Гавриловна; ее лицо раскраснелось от кухонного жара. Молин не встал и не здоровался. Хрипло сказал:
— Деньги принес за квартиру. Александра Гавриловна села в другое кресло. Спокойно ответила:
— Напрасно беспокоитесь, — мы могли бы и подождать: может быть, вам теперь нужны деньги.
Митя стоял в соседней комнате. Выглядывал из дверей. Был в старенькой блузе, босиком.
— Ну, уж это не ваше дело, — сказал Молин, — принес, так берите.
— Как угодно,
— Да вы мне расписку дайте.
— Митя! — позвала Александра Гавриловна. — Принеси чернильницу и бумагу.
— Сейчас, — откликнулся Митя и скрылся.
— А то скажете, что не получали.
— Это уж вы напрасно.
— Нет, не напрасно, знаю я вас, черт вас возьми! — запальчиво закричал Молин.
Митя принес лист почтовой бумаги и стеклянную чернильницу репкою на деревянном блюдце и с пробкою с оловянным верхом. Не ушел, остался у стола. Отнял с той половины стола, где сидела мать, вязаную скатерть, чтоб мелкие дырочки не мешали писать. Молин вытянул ноги и тяжелым каблуком надавил Митину ногу. Митя покраснел и тихо отошел, стараясь, чтобы мать ничего не заметила. Александра Гавриловна спросила:
— Потрудитесь сказать, что я должна написать. Молин диктовал, злобно ухмыляясь:
— Пишите: получила за квартиру десять рублей от каторжника Алексея Молин а.
Александра Гавриловна написала первые слова и с удивлением поглядела на Молина.
— Ну да, вы хотели меня на каторгу послать, вот и пишите.
— Ну уж этого я, воля ваша, не напишу: вы толком скажите, что дальше писать.
Молин настаивал и возвышал голос:
— Нет, вы пишите, что от каторжника! Митя вмешался.
— Пиши, мама: от Алексея Иваныча Молина, потом число сегодняшнее и подпись. Вот и все.
Александра Гавриловна отдала расписку Молину. Прочел, злобно усмехнулся, положил расписку в боковой карман измятого, пыльного сюртука и потянулся в кресле.
— Так-то, Александра Гавриловна, удружили вы мне!
Александра Гавриловна вздохнула и сказала:
— Ну, еще кто кому удружил, неизвестно.
— Вы мне не все веши отдали.
— Уж этого не знаю: вы потребовали, чтоб ваши вещи отправили к отцу Андрею, и сами не пришли, — ну Егорушка все вещи к нему и отправил.
— Одной колоды карт нет, — угрюмо настаивал Молин.
— Уж это вы спросите у Егора, — я не знаю.
— Прикарманили. Да вы у меня, может быть, и еще что-нибудь слимонили, из ношеного, для сынка вашего, оборвыша.
— Вы забываетесь, Алексей Иваныч. Вы пришли, когда я одна…
— Ты не одна, мама, — сказал Митя.
Смотрел на Молина, и на лице его была гримаса отвращения и досады. Мать положила руку ему на плечо. Сказала:
— Ох уж ты!
Молин злобно засмеялся.
— Да я и денег передал что-то уж очень много. Сомневаюсь я, — что-то уж очень начетисто. Обакулили меня.
Молин еще больше развалился в кресле и положил ноги на диван.
— Да что вы, батюшка, — укоризненно сказала Александра Гавриловна, — белены объелись? Опомнитесь, постыдитесь!
— Грабители! Черти проклятые! — бурчал Молин. Митя задрожал в руках матери. Рванулся вперед. Крикнул звонко:
— Как вы смеете так себя вести! Уберите ноги с дивана! Сейчас уберите и уходите вон— Вы нарочно пришли, когда Егора дома нет, чтоб здесь накуражиться. Уходите, или я вас в окно выброшу.
Молин встал и глядел на мальчика злобно и трусливо. Александра Гавриловна тянула Митю за плечи назад и шепотом унимала его. Митя отбивался.
— Оставь, мама, он-трус, он только куражится. Он не посмеет драться.
Молин сделал плаксивую гримаску, подставил Мите лицо и жалобно сказал:
— Ну что ж, ругайте меня, бейте, плюйте мне в лицо, я ведь каторжник, меня можно.
— А не хотите уходить, — говорил Митя, — я пошлю за Егором, вы с ним и объясняйтесь, а маме не смейте дерзостей делать. Ждите, коли хотите, и сидите смирно.
— Да, как же, я буду Егора Платоныча ждать, а вы бранить будете, еще в угол поставите! Нет, черт с вами, уж я лучше уйду. Прощайте, благодарю за ласку.
Молин круто повернулся и пошел к выходу. В дверях он зацепил локтем за косяк, — руки он держал растопыренными из чувства собственного достоинства. С треском вывалился из комнаты, повозился в передней, ощупал выходную дверь, громко захлопнул ее за собою и тяжко загрохотал сапогами по лестнице. Со двора в открытые окна доносились его громкие ругательства и чертыханья.