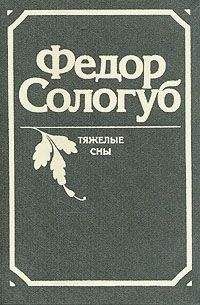— Все бы отдал, — страстно восклицал он.
— Пустите! — гневно крикнула Нета.
— Добьюсь любви.
— Довольно!
— Любовь-великая сила.
— Пустите!
— Вы будете моею.
Нета вдруг сильно взмахнула качели. Она и Андозерский стояли с раскрасневшимися щеками и горящими глазами и все сильнее подбрасывали ногами доску, словно состязались в дерзании.
— Ты будешь моею!
— Никогда!
Замолчали. Качель взлетела так высоко, как только позволяли веревочные подвесы. Большие зубцы гипюрового воротника развевались и били Нету по лицу. Вдруг Андозерский заметил, что Нета сильно побледнела; ее глаза загорелись; вся она подвинулась к одному краю доски и как-то странно перебирала руками.
" Спрыгнет!" — догадался Андозерский.
Сильным напряжением задержал взмахи качелей. Нета сделала движение, но прежде, чем успела приготовиться к прыжку, уже Андозерский стоял на земле и удерживал доску. Нета сделала шаг к середине доски. Андозерский схватил ее за талью, снял с доски и поставил на землю. Нета тяжело дышала. Повторила:
— Никогда!
— Увидите! — ответил он.
Она отвернулась, хотела уйти. Он опять схватил ее. Губы его почти касались ее щеки. Но она вывернулась и убежала.
"А, эта не уйдет!" — подумал Андозерский.
Отправился в дом и отыскал хозяина. Их беседа в кабинете Мотовилова была недолга. Потом Мотовилов пришел с Марьею Антоновною.
Когда Андозерский уходил, у него был вид победителя.
— Садись и слушай, — сказал Мотовилов Нете, когда она вошла в кабинет.
— И благодари отца, — прибавила Марья Антоновна.
Нета села на рогатом стуле, зацепилась пышным бантом кушака и стала освобождать его. Не любила этой комнаты с неуютною мебелью.
"Сидел бы сам!" — думала про отца.
А Мотовилов очень удобно развалился на низеньком диване. Рядом важно торчала его коротенькая жена.
— Так вот, мать моя, — сказал Мотовилов дочери, — тебе счастье, — в генеральши метишь.
— Не имею ни малейшего желания, — капризно ответила Нета.
— Я имею сообщить тебе приятную для нас, твоих родителей, новость: Андозерский просит у нас твоей руки.
— Совершенно напрасно хлопочет! — решительно сказала Нета.
Мотовилов строго посмотрел на нее, а Марья Антоновна сказала наставительно:
— Не капризничай, Нета, — он прекрасный молодой человек.
— И на такой хорошей дороге, — подхватил Мотовилов.
— Да я уж люблю другого, — сказала Нета.
— Вздор, мать моя! Выкинь дурь из головы: за Пожарским тебе не бывать!
— А за Андозерского я не пойду!
— Слушай, Нета, — внушительно сказал Мотовилов, — я тебе серьезно советую, — подумай!
— Подумай, Нета, — сказала Марья Антоновна.
— А иначе тебе худо будет. Я из тебя дурь выбью, не беспокойся. И актеру не поздоровится.
Нету подвергли беспрестанному домашнему шпынянью. Отец призывал ее раза по два на день в кабинет и читал длинные наставления, — должна была стоять и слушать.
— Я устала, — сердито сказала она во время одного такого выговора.
— Ну так стань на колени! — прикрикнул отец.
И ей пришлось еще долго слушать его, стоя на коленях.
Мать пилила понемножку, но почаще. Юлия Степановна подпускала шпильки. Видеться с Пожарским Нете не удавалось, но сумела-таки переслать ему записку.
Дня через два Пожарский явился утром и попросил доложить Алексею Степановичу. Горничная, молоденькая, смазливая девушка, вся красная и крупная, рыжеволосая, краснолицая, в красной кофточке и белом переднике, с красными большими руками и с красными ногами, принесла ответ: не могут принять. Пожарский сказал:
— Скажи Алексею Степановичу, что по важному для него делу.
Горничная пошла неохотно. Пожарский вынул из кармана визитную карточку и карандашом написал:
"Дело у меня несложно, не хотите выслушать, так я словесно передам через кого-нибудь, — только, может быть, вы пожелаете избегнуть огласки; дело щекотливое, и огласка ваши же планы расстроит"-
Горничная вернулась и сказала ухмыляясь, словно радуясь чему-то:
— Извиняются. Никак не могут.
— Ну так передай вот это.
Через минуту горничная опять вышла к Пожарскому. Красное лицо ее досадливо хмурилось. Она сказала:
— Просят пожаловать.
— Давно бы так, — проворчал Пожарский. Мотовилов ждал в кабинете. Тщательно припер дверь. Спросил сухо:
— Чему обязан?
— Многоуважаемый Алексей Степанович! — торжественно сказал Пожарский. — Имею честь просить у вас руки вашей дочери, Анны Алексеевны.
— Вы только за этим явились?
— А его от ответа зависит.
— Ответ вам известен, — резко сказал Мотовилов. Пожарский нахально улыбался. Сказал:
— С тех пор обстоятельства изменились, и потому я беру смелость…
— Ваши обстоятельства?
— Нет, не мои лично.
— Я уже говорил вам, — начал было Мотовилов. Пожарский развязно перебил его:
— Поверьте, Алексей Степаныч, будет лучше, если вы согласитесь.
— Одним словом, это окончательно.
— В таком случае я должен вам сказать, — хотя и с прискорбием, — что, прося теперь руки вашей дочери, я только исполняю долг честного человека.
— Что? — крикнул Мотовилов. Побагровел.
— Увы! — вздохнул Пожарский, — "в ошибках юность не вольна!" Это и есть обстоятельство…
— Это — ложь! Гнусная ложь!
— Могу доказать…
После нескольких минут бурного разговора Пожарский очутился на улице. Растерянно думал:
"Досадно! Кремень человек! Не ждал я того, — только напрасно поклеп взвел на мою Джульетту. Как бы ей перечесу не задали!"
Посетил Андозерского, и также неудачно. Андозерский поверил, но сделал вид, что не верит. Видно было, что не отступится.
Нете поклеп Пожарского обошелся дорого. Отец призвал ее. Бешено раскричался. Нета ничего не понимала и не могла оправдываться. Ее ответы казались отцу признаниями. Свирепел все более. Его крики наполняли весь дом. Надавал Нете пощечин. Нета горько рыдала. Наконец Мотовилов устал. Вспомнил, что надо рассказать жене. Выпил воды. Прошелся по кабинету. Сказал:
— Ты, матушка, в могилу меня уложишь. Но ты еще у меня в руках. Иди к себе и жди березовой каши.
Нета ушла. Мотовилов и Марья Антоновна долго разговаривали. Потом Марья Антоновна пошла к дочери.
Нета сидела одна. Неутешно плакала. Не сомневалась, что отец исполнит угрозу. Но все не могла понять, что случилось. Мать долго сидела с нею.
Наконец Нета сказала:
— Он-негодяй! Ее глаза засверкали.
Марья Антоновна пошла утешить мужа. Мотовилов сказал:
— Ну и слава Богу! Я очень рад. А все-таки Нета виновата, и уж как ты хочешь, а я ее накажу. Уж очень она норовитая. Выбрала, кого любить, нечего сказать.
Нету опять позвали к отцу.
К вечеру в городе уже звонили, что Нету высекли. Молин был в восторге. Радостно рассказывал друзьям. Сочинял глупые и пошлые подробности. Веселились, — Гомзин стучал великолепными зубами. Биншток хихикал.
Каждое утро Логин просыпался мрачный, хмурый. В стенах его квартиры было знойно. Румяный, рыжеволосый мальчуган, который привиделся в то несчастное утро, сделался так телесен, что начал отбрасывать тень, когда стоял в лучах солнца. Но стоило подумать об Анне, — и мальчуган исчезал, словно его не было.
Припомнились дела последних дней, свои и чужие. Жестокий яд злой клеветы все больнее жег сердце. И уже Логин знал, от кого идет клевета. И дела чужие, — негодование, презрение кипели над воспоминаниями о них.
Со всеми злыми думами и воспоминаниями связывался один ненавистный образ — Мотовилова. Злоба к Мотовилову подымалась, как дьявольское оде ржание, и мстительное чувство яростно боролось с внушениями рассудка. Напрасно припоминал заветы прощения. Напрасно приводил себе на память Аннины ясные глаза. Негодование владычествовало над памятью, и Анна припоминалась негодующая, и слышались ее страстные слова:
— Вот человек, который не имеет права жить!
Жажда мщения томила, как жажда, томящая в пустынях. Тяжело было думать, что Мотовилов, это ходячее оскорбление, этот воплощенный грех, еще живет, и дышит одним воздухом с Анною, и отравляет этот воздух гнилыми речами. Иногда Логин представлял себе, что Мотовилов обидит или оскорбит Анну, — и острая боль пронизывала его.
"Но и я не такой ли, как Мотовилов?" — спрашивал он себя и строго судил свое отягощенное пороком прошлое.
"Надо отделаться от ненавистного прошлого, убить его! Остаться жить с одною чистою половиною души. Эта жизнь невозможна. Исход, какой бы то ни было. Хотя бы мучительный, как пытка или казнь".
Чем больше думал об этом Логин, тем сильнее в нем бушевала злоба, страшная ему самому, дикая, зверская, — и тем невыносимее было это состояние, тем повелительнее требование исхода. Это будет, быть может, что-нибудь жестокое, — Логин не знал, что именно, даже не думал об этом и боялся думать, — но чувствовал все сильнее необходимость исхода.