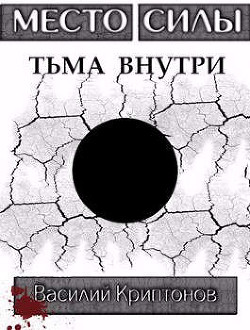class="p1">— Ты видел, сколько у меня добра было? — словно и не слыша меня, спросил Чуклаев. — Видал? Все я продал. Все! Страшно сказать, какие деньги получил за дом! Да еще на сберкнижке были, да еще в надежном месте были припрятаны. Потому сынки с невестками меня встретили лучше, чем самого шкабаваза можно встретить. Скажи я: «Ноги целуйте!» — целовали бы. Точно! Так в душу влезли. Есть садился — без бутылки «Столичной» для меня и без шампанского для бабы не обходилось! Невестка, та, не расцеловав нас, на работу не могла уйти. Тю-тю-тю! Врачей на дом вызывала. «Чего тебе, папенька, принести? Чего тебе, маменька, купить?..»
Ух, Семка, будь ты проклят! Ну лиходей, ну ловкач! И у кого только научился так дела проворачивать?.. Выпить-то чего нет у тебя, Иван Аркадьевич, а то все нутро горит?
Скрепя сердце, проклиная себя за бесхарактерность, я достал из шкафчика графинчик с водкой, нарезал колбасы и сыру, поставил на стол хлеб. Чуклаев деловито наполнил рюмку.
— Сам-то не выпьешь со мной?
— Какое выпить! Я после инфаркта едва оклемался!
— Это что, с сердцем, что ли?
— С сердцем, с сердцем.
— Вот и у меня, Аркадьич, с сердцем было! По причине слабого сердца и объехали меня, старого дурака, — он быстро опрокинул в рот рюмку. Схватил кусок колбасы, разжевал ее, проглотил и продолжил:
— Полгорода мы с ним объездили, все кооперативную квартиру искали. По десять да по пятнадцать тысяч просят. Ну куда это? Такие деньги убьешь, а жить на что? Опять вкалывать идти? Хватит, думаю, наишачился. Нет, прикидываю, лучше тысяч за десять — двенадцать хорошую дачку, зимнюю, чтоб круглый год в ней жить было можно, приторговать — и дело с концом. Дача — не город. Тут жизнь потише, расходу поменьше. Опять же огородик, хозяйством можно обзавестись. Пару хряков откормил, одного — на продажу, вот тебе деньги. Дача — первое дело для нашего брата!
А Семка-то, сукин сын, знает меня, изучил, дачу одну лучше другой показывает. Огороды большие, сады. И места все тихие, красивые. Устал, мол, отец, отдохнешь на старости лет. Потом-то уж я сообразил, зачем он мне аппетит на дачках разжигал: хотел выведать, сколько деньжат у меня в «заначке». Чтоб уж хапнуть так хапнуть, дочиста обобрать. И обобрал, сволочь! Начисто обобрал!.. Почему это все я тебе рассказываю, Иван Аркадьевич? А потому, что вот здесь горит! — Петр Лукич яростно постучал себе в грудь. — Горит, Иван Аркадьевич, черным пламенем полыхает. Обида терзает меня!
Чуклаев умолк, посмотрел на апостола, будто тот тоже внимал его словам, потом склонил голову, провел ладонью по черным, отливающим сизым блеском волосам.
— Короче говоря, обманул меня сыночек. Вот как у тебя, от забот таких серьезных прихворнул — сердце схватило. Семка дачу-то на невестку записал. Как бы с нашего согласия записал.
Рви не рви на себе волосы, хоть в прорубь сунь башку, а дело свое они обтяпали. Решил я в суд на них подать. Но сначала добром поговорить. «Зачем, — говорю, — сынок, как Иуда поступил ты с родным отцом?» И знаешь, Иван Аркадьевич, что он мне ответил? Послушай. «Ты, — говорит, — отец, свое от жизни взял. Хватит, теперь дай нам, молодым, пожить. Все равно, — говорит, — помрешь, дачу с собой не возьмешь».
Стали судиться. Спрашивают сына: «Твой отец?» — «Мой». — «Давал он тебе деньги на покупку дачи?» — «Что вы, — говорит, — гражданин судья, пустое завели! Разве не видите, — старик не в своем уме? Сам, — говорит, — каждый день на четвертинку ему давал. А когда увидал — мозги у него тронулись — перестал, боялся — хуже будет».
Судья ко мне: «Есть свидетели, как вы сыну деньги на покупку дачи передавали?» — «Есть, — отвечаю, — старуха моя. Жена то есть». — «Жена, — говорит судья, — не может быть свидетелем. Прямая заинтересованная личность. Еще есть свидетели?» — «Да какие ж, — говорю, — свидетели нужны между отцом и сыном? Неужто я думал, что у меня не сын, а Иуда вырос?» — «Значит, нет свидетелей, — говорит судья, — что вы деньги сыну давали? А где, позвольте вас спросить, взяли вы такую большую сумму: доходы-то по прежней работе у вас небольшие?» — «Где взял? — отвечаю. — Скопил. Жизнь-то долгая». — «Нелегко такую сумму скопить при вашем заработке». — «Конечно, нелегко, — говорю. — Во всем отказывать себе приходилось». — «Вот это ближе к истине, — говорит судья. — Только зачем же вам на старости лет такие хоромы понадобились? Тут ведь одну уборку делать — прислугу нанимать надо. На что же вам жить? У вас и пенсии еще нет? Нелогично».
Плюнул я на все и ушел из суда. Вернулся в свою конуру, а старуха моя уже окоченела. То ли от угара задохнулась, то ли жаром от котла доконало. Скончалась, бедняжка, царство ей небесное. Как жила тихо, смирно, никому не делала ни вреда, ни пользы, так и померла молчком… «Ну, Семка, спасибо тебе за науку! Пойду жить к Сашке. Только, — наказываю при всех, — за дачей получше поглядывай. И чтоб аккуратно квартплату платили». Стоит прохиндей, как рак, красный, ничего не говорит.
Живу у Сашки. Этот вроде покладистей. Все молчком, уйдет на работу — до вечера, шоферил он. Придет, молчком поест и завалится спать до утра. А невестка тоже оказалась тертый калач. Месяца не прошло, спрашивает меня тихонько: «Папочка, тебе квартиранты вперед не платят?» — «А как же, — говорю, — конечно, вперед». — «Я, — говорит, — почему у тебя спрашиваю. Недостача у меня получилась в буфете. Откуда бы сот пять занять? Может быть, квартиранты раньше срока согласятся отдать за месяц. Все равно два дня до конца месяца. Ревизия пройдет, я тебе эти деньги верну». («Да, — про себя думаю, — знаю, как вернешь ты, если я отгрохаю тебе полтыщи. На себе испытал, какие вы певчие птахи»). «Идите, — говорю, — сами с Сашкой собирайте плату. Я плохо себя чувствую». — «Тогда, — говорит, — записку напиши хоть». — «Это можно, не жалко».
Приехали они вечером, не разговаривают со мной. И ужинать не позвали. Выходит невестка из кухни, красная, и говорит громко так, чтоб Сашка слышал: «Ты, тятя, старый обманщик! Дачу Семке подарил, а к нам с голыми руками прикатил, да еще издеваешься!» Я отвечаю: «А ты Семке эти слова сказала бы, а не мне, если твой молчун отца защитить не может». Хлопнул дверью и ушел…
Вот так, сосед, испытал я иудину любовь своих деток. Не обидно было бы, если бы они, как у других, сами оперились бы. А то ведь я их, как зверь свой