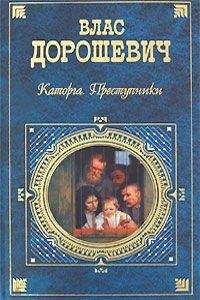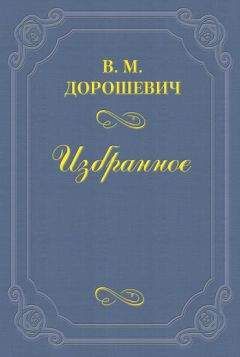Низкопоклонство и наушничество – два самых испытанных приема фельды. Для них у каторги есть два выражения: бить хвостом и ударить плесом. В сущности, «он бьет хвостом» или «он ударяет плесом» значит, что арестант ловко уклоняется от наиболее трудных работ. Но так как для этого есть на каторге только два средства: подольщаться и наушничать, то каторга и говорит про людей, лебезящих перед начальством:
– Ишь, словно рыба на песке: так и бьет плесом, – не трожь, мол.
Выражение «бить хвостом» показывает вам, как каторга смотрит на доносчика. Она зовет его лягашом или сучкой. Он перед начальством «бьет хвостом». Она и обращается с ним как с собакой. Накляузничать на каторжном языке называется лягнуть или свезтитачку. А обвинить перед начальством человека так, чтоб он уж и не выкарабкался, называется – его совсем уж засыпать.
За это каторга знает одно наказание, которое она с каторжным юмором называет налить как богатому, т. е. сильно избить, бить «пока влезет», и, чтоб человек не видел, кто его бьет, накрыть темную, т. е. закутать ему голову халатом.
– Двойная польза, – объясняют каторжане, – и головы во зле не прошибут – жив останется, и уж нальют как богатому: орать не будет.
Как и все измученные, исстрадавшиеся, озлобленные, с издерганными нервами люди, каторжане любят злить и мучить других. Беда, если каторга, умеющая тонко подмечать у людей слабости, заметит, что человек скипидарный, т. е. его можно легко рассердить. Тогда заскипидарить такого человека, из него огня добыть – первое удовольствие для каторги. Есть изумительные мастера по этой части. И я только диву давался, как они тонко знают свое начальство. Если бы начальство хоть в сотую часть так знало их! Скажет слово, кажется, самое невинное, а глядишь, господин смотритель уже заскипидарился.
– Я только, чтобы по закону…
Господин смотритель краснеет:
– А вот я тебе покажу закон! Лишенный всех прав, а туда же, рассуждать лезет и учить. Законник он! Ты бы, мерзавец, лучше об законе думал, когда грабить шел.
– Да мне что ж! Я только, чтобы как по инструкциям…
Смотритель даже подпрыгивает на месте. Если бы тут не было писателя.
– Я тебе выпишу инструкции! Ты учить, учить меня?!
– Зачем учить! Мне только, чтобы, что по табели полагается, выдавали.
– По табели? По табели??!
Смотритель весь побагровел.
– Да вы успокойтесь, – говорю я ему, – ну чего вам волноваться! Стоит ли?
– Нет, какова каналья! Как сыплет: по закону, по инструкции, по табели!..
А каторга, глядя на эту сцену – вижу, – давится со смеху. Смотрителя в пузырек загнали – на языке каторги так называется довести человека до неистовства, когда он уже «землю роет».
– Ну, зачем ты? – спрашиваю потом каторжанина.
– А он этих самых слов очинно не любит. Ему что хошь говори – ничего. А вот «табели» он особенно не уважает!
– Да ведь выпороть за это может.
– И очень просто!
– Ну зачем же ты, чудак-человек?
– Эх, ваше высокоблагородие, не понять вам нас. Посидели бы как мы, не стали бы спрашивать «зачем?». Зло возьмет. Сорвать хочется.
«Заскипидарить», «огня добыть», «в пузырек загнать» – все это выражения применительно к начальству. Это каторга уважает. Задеть, оскорбить ни за что ни про что своего брата – это каторга презирает и называет укусить. Она смотрит на человека, делающего это, как на шальную собаку, которая кусает людей ни за что ни про что. Она презирает это и вечно этим занимается.
– Особачишься тут! – говорят каторжане.
Когда, повторяю, у человека издерганы нервы, ему доставляет удовольствие дернуть за нервы другого. Я мучаюсь – и другой пусть чувствует. Страдание – плохой отец сострадания.
От скуки, безделья и оттого, что там большинство ведь испорченных людей, на каторге страшно развита ложь. Каторга зовет таких людей заливалами, звонарями и хлопушами. Но так как этот недостаток общий, то относится к этому добродушно. И для определения лжеца у нее есть два названия, в которых больше юмора, чем злости.
– Прямой как дуга, – говорит она про такого человека или определяет его рассказы так:
– Ишь, расписывает. Семь верст до небес, и все лесом!
Я уже говорил, что каторга презрительно относится к тем из своих собратий, которые вылезли в «начальство»: в старосты и т. п. Такого человека она зовет шишкой. А для надзирателей, действительно умеющих, если они захотят, появиться совершенно незаметно и накрыть арестантов за игрой или другим недозволенным занятием, у каторги есть остроумное название – дух.
Я не привожу целой массы менее типичных каторжных терминов. Но у каторги на все есть свои имена. Каторга скрытна и не любит, чтобы посторонние понимали даже ее обычные разговоры.
Она как будто требует, чтобы человек, невольно вступая в ее среду, отрекся от всего прежнего, – даже от языка, которым он говорил там, на воле.
Похлебка – по-каторжному баланда.
Казенный хлеб – чурек.
Ложка – конь.
Водка – сумасшедшая вода.
Шуба – баран.
Нож – жулик.
И т. д.
Очень метко каторга зовет паспорт – «глаза».
– Без глаз человек слепой, куда пойдет!
Чтоб покончить с языком каторги, мне остается только сказать о ругательствах каторги.
Все ругательные слова русского слова на каторге только обычная приправа к разговору. Но есть одно слово, за которое режут.
Это грубое, простонародное слово, в переводе на более благовоспитанный язык означающее кокотку.
Это объясняется особыми условиями каторги. Но указать на то, что человек занимается этой профессией, назвать его этим именем, – за это хватаются за ножи.
В Михайловской подследственной тюрьме один арестант, красивый молодой кавказец, зарезал своего товарища.
– За что?
– Он мне одно слово говорил!
И не надо спрашивать, какое слово тот ему говорил.
Замечательно – даже страшная сибирская каторга былых времен, мрачная, жестокая, создала свои песни. А Сахалин – ничего. Пресловутое:
Прощай, Одеста,
Славный (?) карантин,
Меня посылают
На остров Сахалин… —
кажется, единственная песня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсем не поется. Даже в сибирской каторге был какой-то оттенок романтизма, что-то такое, что можно было выразить в песне. А здесь и этого нет. Такая ужасная проза кругом, что ее в песне не выразишь. Даже ямщики, эти исконные песенники и балагуры, и те молча, без гиканья, без прибауток правят несущейся тройкой маленьких, но быстрых сахалинских лошадей. Словно на козлах погребальных дрог сидит. Разве пристяжная забалует, так прикрикнет:
– Н-но, ты, каторжная!
И снова молчит всю дорогу как убитый. Не поется здесь.
– В сердце скука! – говорят каторжане и поселенцы.
«Не поется» на Сахалине даже и вольному человеку. Помню, в праздничный какой-то день из ворот казарм выходит солдат-конвойный. Урезал, видно, для праздника. В руках гармония и поет во все горло. Но что это за песня? Крик, вопль, стон какой-то. Словно вопит человек от зубной боли в душе. Не видя, что человек веселится, подумать можно, что режут кого. Да и не запоешь, когда перед глазами тюрьма, а около нее уныло, словно тень, в ожидании заработка бродит старый палач Комлев.
В тюрьме поют редко. Не по заказу. Слышал я раз пение в Рыковской кандальной.
Дело было под вечер. Поверка кончилась, арестантов заперли по камерам. Начальство разошлось. Тюремный двор опустел. Надзиратели прикорнули по своим уголкам. Сгущались вечерние тени. Вот-вот наступит полная тьма. Иду тюремным двором, остановился как вкопанный. Что это, стон? Нет, поют.
Кандальники от скуки пели песню сибирских бродяг «Милосердные»… Но что это было за пение! Словно отпевают кого, словно похоронное пение несется из кандальной тюрьмы. Словно отходную какую-то пела эта тюрьма, смотревшая в сумрак своими решетчатыми окнами, отходную заживо похороненным в ней людям. Становилось жутко…
Славится между арестантами как песенник старый бродяга Шушаков, в селении Дербинском, – и я отыскал его, думая «позаимствоваться». Но Шушаков не поет острожных песен, отзываясь о них с омерзением.
– Этой пакостью и рот поганить не стану. А вот что знаю – спою.
Он поет тенорком, немного старческим, но еще звонким. Поет пригорюнившись, подпершись рукою. Поет песни своей далекой родины, вспоминая, быть может, дом, близких, детей. Он уходил с Сахалина «бродяжить», добрался до дому, шел Христовым именем два года. Лето целое прожил дома, с детьми, а потом «поймался» и вот уже 16 лет живет в каторге. Он поет эти грустные, протяжные, тоскливые песни родной деревни. И плакать хочется, слушая его песни. Сердце сжимается.