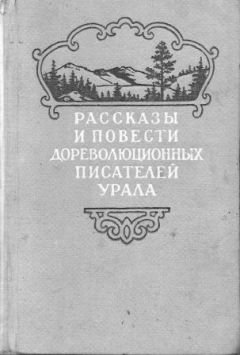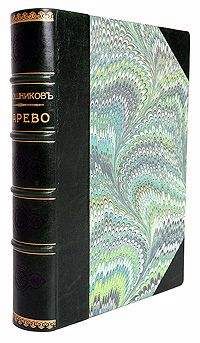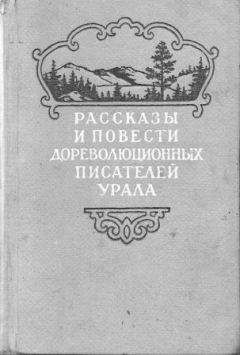— Что?! Кто ты, у тебя спрашивают?
— Не фыркай! Почище видали, да редко мигали… Нимфа я.
— Я тебе дам нимфу! Я тебе покажу! Паспорт есть?
— Это она, вашескородие! Которая нанесла мне оскорбление… словами и действием, она… — подсказывал молодец в бешмете.
— Знаю. Это еще что за шут гороховый?
— Позвольте представиться… антрепренер-с… простите, такое досадное происшествие…
— Знаю. Айда все за мной! В участке разберем!
С этого вечера театр "Услада" был закрыт, к вящей радости конкурентов.
О труппе его ничего неизвестно.
ПРИМЕЧАНИЯ
Печатается по тексту газеты "Уральский край", 1909, 25 декабря.
СВОЯ СВОИХ
Тому бы, известно, по дружбе объясниться келейно, посоветовать приятелю не говорить напредки непотребных слов, за которыми, как ему было известно, и крамолы-то никакой не таилось. Так вот поди ж ты! Не знаешь, где упадешь. Законность какая-то на ту пору обуяла, служебное рвение… Ох, если бы да знать тогда! Не знал.
Вот и приехали на промысла хорошие гости: мундирчики с иголочки, шпоры позвякивают, все-то на них блестит, сверкает. Красота! Приняли отменно: бал, ужин с шампанским, музыка, дамы… Уехали, очарованные сами и всех очаровав. Долго воздушными поцелуями обменивались. Управляющий после того так полюбил военных, что стал свято чтить не только царские дни, а и все кавалерийские праздники. Даже флагов нашили в большом изобилии.
Только господин исправник после ближайшего первого числа не получил с промыслов традиционного конвертика с лаконическим: "в собственные руки". Изумился, подождал недельку.
"Может, забыли просто… Хотя, как забыть? Ну да мало ли! А вдруг да… Нет, нет!" — сам испугался мелькнувшей догадки.
И неделя, другая прошла, а конвертика нет как нет.
— Господи, неужто? Конечно, по закону не обязаны, просить нельзя… Да разве одни писаные законы? Освященный веками обычай стоит закона, уважение его не менее обязательно…
Пришло следующее первое число и опять не принесло ничего. Выходило уже — не забыли, а наоборот, — припомнили.
— А, вы вот как! Хорошо же, посмотрим. Пока не трогали закона, жили да радовались:
— Ах, что и за исправник! Ему бы губернатором…
— Вот это — управляющий… Не копеечник! Сейчас видна натура, размах… Белая косточка!
А как попутал лукавый в недобрый час на законы опереться, и пошло:
— Хапуга! Держиморда! Я ему покажу, полицейской крысе…
— Выжига, вор, нигилист! Ему в остроге сгнить мало!
И чинили один другому всякие каверзы, пакости.
Событие исключительной важности, задолго оповещенное в "Ведомостях" и взволновавшее уездные сферы далекой окраины: едет "по епархии" преосвященный. Трепетали батюшки, морщились церковные старосты и монастырские казначеи.
— Понимаете: сам владыка! Особа! — внушительно подымал палец озабоченный исправник, раздавая инструкции. И становые пристава сломя голову летели сгонять народ для починки дорог.
Одновременно с этим вздумал обозреть свои владения какой-то Шляхтин, личность неизвестная; по крайней мере газеты о поездке его не обмолвились, никаких распоряжений на сей предмет от начальства не последовало.
— Мало ли тут директоров всяких компаний, владельцев и золотопромышленников ездит! Видали этого добра…
Так, разумеется, думал и владыка; вернее — совсем не думал, что поездка какого-то Шляхтина и его собственное путешествие могут составлять равноценные события, одно на другое влиять.
И однако на первой же после железной дороги почтовой станции пришлось услышать неожиданное:
— Каки теперь лошади! Все с Шляхтиным убежали.
Владыка, узнав о причине задержки, вопросительно, с тихою укоризною поглядел на сопровождавшего его исправника.
— Это недоразумение, ваше преосвященство… не извольте беспокоиться… — забормотал, краснея. И выбежал во двор.
— Что?! Да знаешь ли, что я могу с тобой сделать? — накинулся на почтосодержателя. — Кто едет-то? Как ты осмелился!
— Воля ваша, — развел тот руками, — только вон две пары стоят, потому, ежели для казенной надобности, без коней тоже нельзя…
— Я с тобой после разделаюсь, — зловеще прошипел исправник, — доставай скорее вольных!
— Нету вольных, восемнадцать троек под Шляхтиным ушли. Начисто! Подождать, не иначе, придется…
Точно вдруг потеряв способность речи, исправник несколько секунд стоял, выпуча глаза. Мужик, потупясь, ковырял в носу. Потом точно кто плашмя ударил лопатой по чему-то мягкому. Раз, другой… Мужик покачнулся.
— Ваше скородие, владыка требуют!
Мужик как ни в чем не бывало высморкался кровью в подол рубахи, покрутил головой, ухмыляясь хитро и самодовольно всей физиономией, и отправился куда-то по хозяйству.
— Так-таки и нет лошадей? — коротко спросил преосвященный. Исправник, заикаясь, принялся со страха в чем-то оправдываться.
— Ну что же, я подожду, да… — проникновенно поглядел владыка.
Выехали только через семь часов, на измученных обратных лошадях. На всех следующих станциях повторилось то же самое; почти сказочные подробности рассказывались о проследовавшем поезде Шляхтина.
— Кто же вам коней оставит? Он по три целковых на водку дает, по десятке за тройку с перегона!
— И секлетари с ним, и доктора, и повара, а камердин весь в медалях да прозументах… Одних генералов, чай, до десятка!
— Нет, ведь это пренебрежение, насмешка какая-то… Я буду жаловаться! Так нельзя… Не мне, скудоумному и убогому, а сану моему довлеет, за себя я все прощаю, но здесь оскорблен представитель…
— Простите, владыка! Я в отчаянии… я, видит бог, всей душой…
— Я вас и не обвиняю. Понимаю, вижу, как вас убивает. Тут золотой телец… Да кто же, этот муж?
— Владелец промыслов… еврей, ваше преосвященство… Сейчас узнал, что царский прием на границе его владений оказан, священник похвальным словом приветствовал…
— Как? Православный священник? Иудея? Кто же этот иерей?
— Из его имения, Феогност Купелин! — с готовностью подсказал исправник, родственницу которого этот самый отец Феогност сжил с места учительницы.
— Возмутительно! Православный священник… иудею! Надменному гордецу, из-за которого епископ терпит надругательства… Нет, я буду требовать правосудия!
— Смею ли просить, владыка, вашей защиты и представительства пред господином губернатором? Я все делал…
— Вполне, всеконечно, можете располагать моим покровительством! И от себя, и за вас стану протестовать против дерзкого неуважения к власти…
По приезде в городишко преосвященный отправил жалобу в губернию, а отцу Феогносту отрешение от должности с предписанием немедля явиться пред владычные очи. Отсюда же, ободренный архиереем, исправник почтительно, но властно потребовал из управления промыслов сведений: какими видами на жительство располагают прибывшие туда лица и имеют ли вообще право жительства в губернии, будучи иудейского вероисповедания? Торжествующе улыбался, потирая руки.
С триумфом, действительно, невиданным, въехал Шляхтин в свое имение, в котором могло бы вместиться все царство Польское. И дом, над которым день и ночь работало несколько сот человек, был похож на дворец в этих дебрях: до тридцати комнат, с великолепною мебелью из столицы, с дорогими материями по стенам, ливрейные слуги, флаг на кровле…
Все это понадобилось для месячного, первого и последнего, конечно, пребывания на промыслах их владельца.
Странную, невероятную бумагу от исправника получил управляющий. Даже из рук выронил, как прочел, испарина прошибла. Побежал за советом к личному секретарю Шляхтина.
— Извините, не смею доложить его превосходительству сам… Вот видите, исправник… грубый и невежественный человек, конечно…
Секретарь отнесся совсем необычайно. Читая, все выше подымал брови, улыбаясь, а кончив, вздернул плечи и громко, весело захохотал.
— Черт возьми! Хорошо, я доложу… — сквозь смех едва мог ответить. — Для курьеза, само собой! У него — паспорт?.. Нет, каково! Доложу обязательно… Паспорт! А? Курьез, курьез…
Едва ушел управляющий, как прибежал встревоженный, запыхавшийся отец Феогност и просит непременно личного свидания с владельцем. Очень доступный вообще, тот сейчас же принял.
— Ваше превосходительство! Защитите, помогите! Семеро детей… Что же я такого сделал? Ваше превосходительство! — взывал обескураженный попик, потрясая архиерейской бумагой.
Перед обедом лакей Шляхтина принес в контору депешу, объяснив, что приказано отправить с нарочным.
"Видно, губернатору", — подумал управляющий.
Но, прочитав адрес и текст телеграммы, разинул рот и замер в благоговейном ужасе.
После богослужения в соборе владыка проследовал к градскому голове. К обеду съехалось все, что было именитого, богатого, чиновного. Когда зашла речь о неудобствах дорог, преосвященный пожаловался на сугубые тяготы и лишения, испытанные по милости какого-то проезжего Шляхтина.