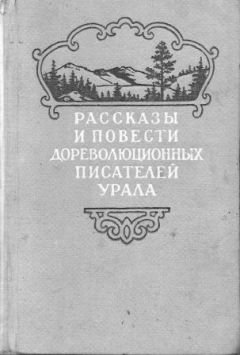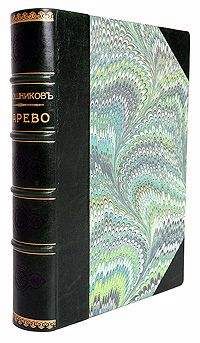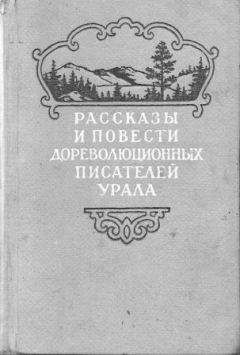— Затворяйте двери! Как не понимать, что тут дети… — всякий раз встречает пришельцев нервозная дама.
Одна прибывшая компания оказывается знакомой тому именитому коммерсанту, что угощает офицера. Трое мужчин и дама.
— А-а, здравствуйте! Вот не узнал!
— Богатым быть, хе-хе… Милости просим!
Требуется новый запас ликера, шоколад для дамы.
Офицер чуточку отодвинулся и держится в кругу новых, нежданных знакомых с еще более осторожной, слегка высокомерной учтивостью. Похоже, его начинает шокировать это общество, где сразу завязались разговоры о хитро проведенных и, кажется, не совсем чистых сделках с векселями, замаскированно хвастливые повествования о беседе запросто с губернатором, а все это вперемежку с неуклюжими остротами, пошлыми любезностями по адресу дамы, смачными гастрономическими прениями.
— Докладывают ему, конечно: потомственный почетный гражданин…
— Нет, вот мне раз привезли осетра — это была рыбина!
— Ну, чем удивили, батенька! У меня бывали стерляди с вашего осетра, ей-богу… Во! Аршина полтора!
Совсем уж осовевший благообразный старец разглядывает плакаты по стенам, размышляя вслух:
— И все жиды, армяне да немцы… Ни одной русской фамилии! О, господи…
— Но, позвольте! Как это "не дается", когда я даже и подписываюсь всегда потомственным почетным гражданином?
— Извините, я не спорю, мне только помнится… Может, ошибаюсь, может, и за личные заслуги, кроме духовенства, дается потомственное, может быть… — почти презрительно соглашается офицер, отодвигаясь еще дальше.
— Забыли господа бога и заповеди его, вот он и наслал, как древле саранчу, всякую инородную нечисть по грехам нашим, — изливается в гражданской скорби благочестивый старец.
Все новые и новые пассажиры… Заняты все диванчики, все стулья. Дамы, укутанные в дорогие меха, увешанные золотом, с птицами, звериными мордами и лапами на головных уборах, похожи на каких-то языческих идолов и, повидимому, гордятся этим. Кажется, они с удовольствием вдели бы себе в нос и губы какие-нибудь красивые рыбьи кости, но еще нет такой моды…
— Ах, какая досада: столько ждать… Говорила, спросить по телефону надо было. И лошадей отпустили. Фу, какая глупость!
— Ну, что ж? Все к лучшему! Успеем поужинать. Эй, человек! — сделал строгое лицо только что ухмылявшийся пижон.
— Только стерлядь сварить обязательно в белом вине, иначе я не ем! Есть у вас сотерн? Ах, я такая капризная!
— А мороженое фисташковое, слышите? Непременно фисташковое, непременно!
— Что это? — свирепо уставился на официанта какой-то важный чиновник, приготовившийся покушать:- Как подаешь, спрашиваю я тебя?!
— Извините-с… — заробев, лепечет недоумевающий "человек".
— Дурак… Пшел! — с гадливой миной делает пренебрежительный знак рукой.
Упитанный буфетчик прислушивается в священном трепете и встречает несчастного официанта; как ястреб свою жертву, гневно шипит, сверкает глазами на его неслышные оправдания и долго с тревогой приглядывается к сановитому, грозному господину. А тот, довольный нагнанным страхом на безответного лакея, успокоился уже и кушает, аппетитно чавкая.
— Гинет матушка Россия, гинет… — скорбно кивает головой осушивший второй графинчик богобоязненный старец и глядит на официанта с кроткою укоризной: — Так нет, говоришь, растегаев?
— Нет-с. Вот по карте — что угодно.
— М-м… Кансоме да штенглицы какие-то, нерусское все… Все и везде… О, господи!
— Он мне: не могу, дескать, вот ежели по полтинничку…
— А я его тут и пристукнул своей накладной! Как, мол, нравятся мои тридцать вагончиков? И на гривенничек, говорю, дешевле вашего, расторговаться-де хочу… Ну, тут другой разговор, конечно! Полный рублик, только проезжай дальше, голубчик мой!
— Дайте шампанского! Да чтобы холодное, слышите!
— И фруктов! Ах, если бы здесь были персики…
— А мне жареного миндаля. Шампанское и миндаль — прелесть!
Буфетчик, насторожившись, заметался, как акула подле корабля, почуявшая бурю и поживу. Засуетились, забегали официанты…
Зал третьего класса — что-то вроде длинного и грязного манежа — едва полуосвещают мерцающие лампы на чугунных колоннах. С первого взгляда похоже, будто попал на бранное поле после горячей сечи, точно и пройти невозможно средь этой сплошной массы повергнутых тел, где в беспорядочных кучах перемешались головы и руки, лохмотья овчин, ноги в лаптях и валенках, солдатские шинели и белые холстяные котомки. И нельзя понять при виде этой человеческой груды на заплеванном каменном полу, которые кому принадлежат перепутавшиеся руки и ноги; кажется, случись переполох, и сами обладатели их не скоро разобрались бы. А над всем этим — тяжелый, отравленный, спертый воздух…
Только осмотревшись, удается разглядеть отдельные лица: мужские и женские, старые и молодые, устало-равнодушные и озабоченно-грустные. И как увядающие полевые цветы средь свежескошенного сена, выделяются детские личики из этой грязной кучи оборванных людей и их нищенского скарба. Истомленные, печальные личики.
То и дело хлопают входные двери, клубы морозного воздуха далеко ползут по низу, обволакивая продрогших, скорчившихся на полу людей.
Вновь прибывающие пробираются тихонько, чтобы не наступить на чью-нибудь голову или руки, долго высматривают, где бы приткнуться.
Только жандармы ухитряются как-то свободно расхаживать взад-вперед средь самой гущи, кидая вокруг пытливо-настороженные, точно ощупывающие взгляды.
Вдали у стены, сквозь табачный дым и испарения тысячи человеческих тел, мерцают лампады, поблескивают оклады икон и подсвечники. Дежурная монахиня борется со сном, покачиваясь над раскрытою книгой. Большие тяжелые очки ее сползают по носу все ниже-ниже…
— Купить что желаете? — встрепенувшись, оборачивается изредка к рассматривающим от скуки крестики, образки и всякие монастырские рукоделия.
Спрашиваемые торопливо и молча отходят. Матушка опять начинает дремать.
— Куда прешь? Не видишь: нельзя?.. — сердито, спросонок окликают солдаты, оберегая свободный уголок с поставленными в рогатки винтовками.
— Отодвиньтесь, освободите… Перейдите, говорю! — хлопочет елейной наружности плюгавенький человечек, отпирая книжный шкаф с душеспасительной литературой и надписью: "Здесь же запись в члены союза русского народа за 25 копеек".
Около шкафа сбирается толпа. Держатся поодаль. Старец в енотовой шубе, что с молитвою опорожнил два графинчика в первом классе, перебирает брошюры.
— Что вы мнетесь? Это никому невозбранно, нарочно и выложено, чтобы смотрели, — ободряет мужиков:- Купишь, нет ли — с тебя не взыщут, а поглянется книжечка, тебе же польза: соберетесь на досуге да почитаете, оно и занятно и от пьянства отвлекает мужика. Вот и в члены можете записаться, это, по вашему крестьянскому делу, священный долг, можно сказать…
— А какая, к примеру, чрез это льгота будет, ежели членом? — выступил мужичок посмелее.
— Станешь посещать собрания, где обсуждаются разные вопросы, — с готовностью оборачивается продавец, как бы сбираясь уж уловить в свои сети.
— Ну, это нам неспособно, чтобы рассуждать… Понятнее таких у нас нет… — разочарованно пятится мужик.
— А вот на то и союз, чтобы ваш брат не входил в настоящее-то понятие! — неожиданно ввернул какой-то, должно быть, видавший виды молодец в нагольном тулупе.
— Это в каких же смыслах? — подозрительно покосился в его сторону продавец.
— Все в тех же! — насмешливо посмотрел тот: — Небось, коли на собраньях-то ваших да мужики насчет барской земли настоящее понятие иметь захочут, закудахтают ваши бары да богатеи! Это только для тумана все: "член, дескать, равный со мной, хоть и армячишка на тебе, а у меня шуба в три сотни…" Лестно!
Толпа подвинулась ближе, навострив уши. Продавец глянул уже тревожно и обронил медовым голоском угрожающе:
— Напрасно ты, умный человек, этакие смущающие слова выражаешь, да-с… За это не хвалят, друг.
— Это он от своего бараньего тулупа шубе моей позавидовал! Прощалыга какой, не иначе…
— Нам ладно и в овчине. Не больно завидно тоже, коли шуба соболья, а голова-то баранья будет! — задорно кинул парень, отходя прочь.
— Это он к чему же? — хлопая глазами, оглядел всех почтенный старец. Потом вдруг вспыхнул. — А вот взять да и представить жандарму за такие речи! Кто таков есть? Сицилист, видно, — политик, жулик! Где он? Куда девался?
При слове "жандарм" толпа шарахнулась, и подле киоска сразу опустело.
У стены на полу, среди сундучков и мешков, какой-то болезненного и хмурого вида рабочий приподнял за плечи горящую в лихорадке женщину и поит с блюдечка чаем.
— Может, хлеба бы съела?
— Нет, не хочу… — поглядела ласковыми, благодарными глазами и опустилась на узел, плотнее кутаясь в какое-то грязное и рваное тряпье.