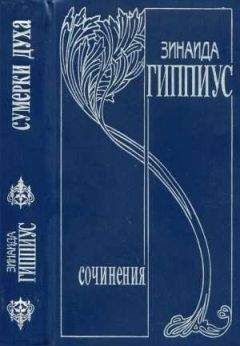И я невольно, почти злобно, стал наблюдать, подсматривать все ее движения и слова, и мучился невообразимо, то находя ее холодной и узкой, то открывая в ней прежнюю силу души. Я не знал… и мне жилось скверно, а со мной вместе и Варе, которая часто плакала, но молчала, не понимая, что со мною делается.
Мы виделись каждый день. Варя мне сказала как-то, что она умерла бы, если б мы не виделись один день. Мне это очень понравилось, потому что я сам думал так же. Однажды я был болен, не мог подняться с постели, и Варя ко мне приехала, и мы провели все-таки день вместе. Любовь не терпит никаких внешних препятствий, не терпит ни дня разлуки, она должна победить все, должна быть всегда первою, – а иначе, это не такая любовь, которой стоит дорожить. Меня испугала как-то и Вера Ивановна: полушутливо, вызывая дочь из соседней комнаты, она произнесла:
– Ну, Варя, любовь любовью, а дело делом! Иди-ка, подруби эту оборку, ты ее не кончила, а без нее дальше шить нельзя.
«Любовь любовью, а дело делом!» У меня даже сердце похолодело. Какой ужас! Любовь, заполняющая пустые промежутки между часами, делами! Мне показалось это кощунством.
«Они живут, как во сне, – думал я. – Берут то, что лежит ближе, и ничем не живут вполне, отдавая себя до капли. Неужели и Варя? Боже мой, неужели и она?»
Так шли наши отношения, через пень, через колоду, кое-как. Свадьба, впрочем была назначена в январе.
В сентябре наступила слякоть. Унылое, бело-серое небо опустилось низко. В один из таких безнадежных дней, после завтрака, когда уже лошадь была заложена, чтобы отправляться в Лужки, – старик мой подал мне письмо.
Меня извещали из Петербурга, что бывший опекун мой Валериан Константинович внезапно скончался и что найдено завещание, делающее меня его единственным наследником. Но возникли кое-какие затруднения, устранить которые может только мое личное присутствие. И адвокат звал меня в Петербург немедля, предупреждая, что в случае, если я не приеду, дела могут принять плохой оборот, и что пробыть в Петербурге мне придется, вероятно, около двух месяцев.
Я понял все очень ясно. Состояние моего опекуна не маленькое, – тысяч двести или триста. Я делался богатым человеком. Я мог исполнить свою заветную мечту – поехать путешествовать. Новая жизнь открывалась передо мной, но… для этого мне нужно было оскорбить свою любовь, ранить ее, свести на ту степень обычной любви, которой любят все простые люди… надо было разлучиться с Варей на два месяца из-за денег.
Признаюсь, у меня не было даже колебаний. Раз признав, что я люблю, оскорблять свою любовь я не мог и мысленно. Она была для меня дороже всего.
Я сунул письмо в карман и поехал в Лужки.
Дождь не шел, но тонкая изморозь туманила горизонт. Мокрые, голые ветки деревьев качались с тем мертвым постукиванием, которое всегда мне напоминает стук костей скелета. Было тоскливо, холодно и тяжко.
Я думал о письме и о Варе. И вдруг злая мысль озарила меня. Вот случай, когда я могу до дна узнать, любит ли меня Варя, понимает ли мою любовь. Если она даже не может любит меня так, но понимает меня и дорожит мною, – она удержит меня.
Я почти вбежал на крыльцо. Варя встретила меня в передней.
– Что с тобой, Ваня?
Она уже начинала говорить мне «ты» иногда и звала Ваней, к чему, впрочем, я не мог привыкнуть: очень мне не нравилось.
– Два слова… Зайдем к тебе.
В ее комнате я, без околичностей, показал ей письмо, объяснил его и сказал тихо:
– Ну, что же? Как ты думаешь?
Сердце у меня билось тяжело, часто, в ушах шумело. Я чуть не крикнул ей: скорее, скорее! Скажи, что ты любишь нашу любовь, что ты не дашь оскорбить ее разлукой из-за денег, что ты не расстанешься со мной ни на минуту…
Глаза Вари наполнились слезами. Она взглянула на меня кротко.
– На два месяца… – прошептала она.
Я сделал невероятное усилие над собою и проговорил:
– Но я буду писать тебе каждый день… И, может быть, дела кончатся раньше. Подумай, как мы будем потом счастливы…
– Да, Ваня. Но все-таки тяжело.
– Тяжело, конечно. Так ты отпускаешь меня?
– Ваня, это для твоего блага… Я была бы гадкой эгоисткой… А для твоего блага…
Для моего блага! Она не знала, что она делает с моим сердцем.
Мы не говорили больше. О чем? Да я и чувствовал, что не могу дольше притворяться. Я не уехал сейчас же. Варя приписала мою мрачность нашей скорой разлуке и была со мною особенно нежна. Она тоже горевала, но тихо, кротко, покорно, – и радовалась, что «мы будем счастливы» – потом… Все поздравляли меня с получением денег… А мне казалось, что на дворе еще темнее, изморознее и ужаснее, что стены ползут бесшумно вниз около меня, что пол уходит в пропасть подо мною… Все кончено… Любви нет, потому что не это любовь.
Я не видел Вари. Я написал ей письмо, где в последний раз пытался объяснить ей, что она заботилась о моем благе, не зная, где оно находится, что она убила нашу любовь.
Я писал всю ночь, – а через день уже был в Петербурге.
VI
Два последующих года проползли медленно, хотя вся жизнь моя переменилась.
Я пробыл в Петербурге, сколько того требовали дела, – месяца четыре, получил деньги, которых оказалось больше, чем я мог предполагать, и тотчас же пустился странствовать. Полтора года я прожил в Италии. Я много занимался, не так, как прежде, а серьезно и систематически, слушал некоторое время лекции в болонском университете – не для лекций, а больше, чтобы сойтись ближе с итальянскими студентами, которые меня интересовали. Во Флоренции я сошелся с одним дряхлым старичком профессором; он меня очень полюбил.
Эти два года так изменили меня, показали в таком новом и простом свете и жизнь, и красоту, и искусство, что я не любил вспоминать себя прежнего, деревенского, глупого и смешного ребенка. И прошлое Италии, которое я любил, не зная, – я узнал, понял и полюбил еще больше.
О Варе я старался не думать и не вспоминать. Всякой любви я избегал. Это было больное место, которое я решил не трогать.
Весной третьего года (я жил тогда во Флоренции) со мной случилось что-то нехорошее. Я заболел. У меня, собственно, ничего не болело, но необъяснимая тоска, тяжелая и тупая, грызла мою усталую душу. Что бы я ни делал, о чем бы я ни думал, она была тут, мешала дышать и говорить. Я не знал, куда себя давать. Каждый день, ранним утром, я ходил наверх, к монастырю Сан-Миньято. Оттуда была видна Флоренция, покрытая сизой утренней дымкой, вся серая, маленькая и гордая; Арно, извиваясь в долине, блестел, как расплавленное олово; вся холмистая, нежная Тоскана улыбалась мне, а я плакал, глядя на нее, и не знаю, чего хотело мое сердце. Один раз, помню, мне вдруг вспомнилось ровное, зеленое море высоких трав, запах мяты и повилики, пара белых бабочек над стеблями кашки и одуванчиков… Мне стало страшно. Откуда такие воспоминания здесь, в этой прекрасной и смелой Флоренции, в городе дворцов и роз?
Но дольше я не мог выдержать. Бежать, – не все ли равно куда? И я поехал в маленький городок Цезаро, довольно далеко от Флоренции, на берегу Адриатического моря.
Я не искал ничего, кроме одиночества и морских волн. Знал, что не найду там никаких особенных красот природы, – мне нужна была перемена и отдых.
Я приехал в жаркий день; городок мне показался некрасивым, не очень уютным, слишком ярким. Солнце ослепительно ударяло в светлые стены домов. Синела на краю узкой улицы, вдали, темная, как синька, полоса моря. Я не пошел к морю, боясь жары. В темной, не очень чистой, гостинице, но величественной, как дворец, – потому что это действительно был старинный дворец-«шалаццо» какого-то кардинала, – мне отвели громадную сводчатую комнату, которая мне сразу понравилась.
Я спросил, нет ли тут музея, картинной галереи. Мне указали путь. Я люблю музеи самые простые, без посетителей, темные и прохладные, где бродишь тихо, не торопясь к шедевру, где открываешь иногда на скоробившемся холсте неугаданные лица божественной красоты.
Но цезарский музей оказался неинтересным, если не считать отделения майолик, которые превосходны, но которые меня на этот раз не тронули.
Сторож, видя мое равнодушие, предложил мне идти вниз, где есть скульптурное отделение и «классы».
Скульптурное отделение оказалось собранием слепков. В боковых комнатах помещались классы, – ученики рисовали и лепили. Я прошел во вторую комнату. На стене меня заинтересовал какой-то орнамент, – и я остановился. Здесь работали ученицы, на которых я не обратил особенного внимания. Было тихо, иногда только слышались отрывочные фразы на грубовато-звучном и переливчатом итальянском языке, к которому я давно привык.
Вдруг я почувствовал себя неловко, как человек под слишком пристальным взором. Я обернулся. На меня в упор смотрели два больших светло-серых глаза, светлых, но не прозрачных, как чистый ручей с темным днем. Я удивился. На меня никто так не смотрел. Да и в наружности моей не было ничего замечательного, даже свои длинные волосы я давно остриг. Я хотел уйти, но, вглядевшись пристальнее в девушку за пюнитром, я остановился. Она мне показалась такой странной и такой интересной, что я сам не отрывал от нее глаз, не думая о неловкости этого переглядывания.