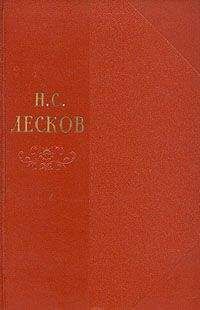И еще, наконец, пришло третье и последнее письмо, которым Ахилла извещал, что скоро вернется домой, и вслед затем в один сумрачный серый вечер он предстал пред Туберозова внезапно, как радостный вестник.
Поздоровавшись с дьяконом, отец Савелий тотчас же сам бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть от любопытных радостное возвращение Ахиллы.
Беседа их была долгая. Ахилла выпил за этою беседой целый самовар, а отец Туберозов все продолжал беспрестанно наливать ему новые чашки и приговаривал:
— Пей, голубушка, кушай еще, — и когда Ахилла выпивал, то он говорил ему: — Ну, теперь, братец, рассказывай дальше: что ты там еще видел и что узнал?
И Ахилла рассказывал. Бог знает что он рассказывал: это все выходило пестро, громадно и нескладно, но всего более в его рассказах удивляло отца Савелия то, что Ахилла кстати и некстати немилосердно уснащал свою речь самыми странными словами, каких он до поездки в Петербург не только не употреблял, но, вероятно, и не знал!
Так, например, он ни к селу ни к городу начинал с того:
— Представь себе, голубчик, отец Савелий, какая комбынация (причем он беспощадно напирал на ы).
Или:
— Как он мне это сказал, я ему говорю: ну нет, же ву пердю, это, брат, сахар дюдю.
Отец Туберозов хотя с умилением внимал рассказам Ахиллы, но, слыша частое повторение подобных слов, поморщился и, не вытерпев, сказал ему:
— Что ты это… Зачем ты такие пустые слова научился вставлять?
Но бесконечно увлекающийся Ахилла так нетерпеливо разворачивал пред отцом Савелием всю сокровищницу своих столичных заимствований, что не берегся никаких слов.
— Да вы, душечка, отец Савелий, пожалуйста, не опасайтесь, теперь за слова ничего — не запрещается.
— Как, братец, ничего? слышать скверно.
— О-о! это с непривычки. А мне так теперь что хочешь говори, все ерунда.
— Ну вот опять.
— Что такое?
— Да что ты еще за пакостное слово сейчас сказал?
— Ерунда-с!
— Тьфу, мерзость!
— Чем-с?.. все литераты употребляют.
— Ну, им и книги в руки: пусть их и сидят с своею «герундой», а нам с тобой на что эту герунду заимствовать, когда с нас и своей русской чепухи довольно?
— Совершенно справедливо, — согласился Ахилла и, подумав, добавил, что чепуха ему даже гораздо более нравится, чем ерунда.
— Помилуйте, — добавил он, опровергая самого себя, — чепуху это отмочишь, и сейчас смех, а они там съерундят, например, что бога нет, или еще какие пустяки, что даже попервоначалу страшно, а не то спор.
— Надо, чтоб это всегда страшно было, — кротко шепнул Туберозов.
— Ну да ведь, отец Савелий, нельзя же все так строго. Ведь если докажут, так деться некуда.
— Что докажут? что ты это? что ты говоришь? Что тебе доказали? Не то ли, что бога нет?
— Это-то, батя, доказали…
— Что ты врешь, Ахилла! Ты добрый мужик и христианин: перекрестись! что ты это сказал?
— Что же делать? Я ведь, голубчик, и сам этому не рад, но против хвакта не попрешь.
— Что за «хвакт» еще? что за факт ты открыл?
— Да это, отец Савелий… зачем вас смущать? Вы себе читайте свою Буниану и веруйте в своей простоте, как и прежде сего веровали.
— Оставь ты моего Буниана и не заботься о моей простоте, а посуди, что ты на себя говоришь?
— Что же делать? хвакт! — отвечал, вздохнув, Ахилла.
Туберозов, смутясь, встал и потребовал, чтоб Ахилла непременно и сейчас же открыл ему факт, из коего могут проистекать сомнения в существовании бога.
— Хвакт этот по каждому человеку прыгает, — отвечал дьякон и объяснил, что это блоха, а блоху всякий может сделать из опилок, и значит все-де могло сотвориться само собою.
Получив такое искреннее и наивное признание, Туберозов даже не сразу решился, что ему ответить; но Ахилла, высказавшись раз в этом направлении, продолжал и далее выражать свою петербургскую просвещенность.
— И взаправду теперь, — говорил он, — если мы от этой самой ничтожной блохи пойдем дальше, то и тут нам ничего этого не видно, потому что тут у нас ни книг этаких настоящих, ни глобусов, ни труб, ничего нет. Мрак невежества до того, что даже, я тебе скажу, здесь и смелости-то такой, как там, нет, чтоб очень рассуждать! А там я с литератами, знаешь, сел, полчаса посидел, ну и вижу, что религия, как она есть, так ее и нет, а блоха это положительный хвакт. Так по науке выходит…
Туберозов только посмотрел па него и, похлопав глазами, спросил:
— А чему же ты до сих пор служил?
Дьякон нимало не сконфузился и, указав рукой на свое чрево, ответил:
— Да чему и все служат: маммону. По науке и это выведено, для чего человек трудится, — для еды; хочет, чтоб ему быть сытому и голоду не чувствовать. А если бы мы есть бы не хотели, так ничего бы и не делали. Это называется борба (дьякон произнес это слово без ь) за сушшествование. Без этого ничего бы не было.
— Да вот видишь ты, — отвечал Туберозов, — а бог-то ведь, ни в чем этом не нуждаясь, сотворил свет.
— Это правда, — отвечал дьякон, — бог это сотворил.
— Так как же ты его отрицаешь?
— То есть я не отрицаю, — отвечал Ахилла, — а я только говорю, что, восходя от хвакта в рассуждении, как блоха из опилок, так и вселенная могла сама собой явиться. У них бог, говорят, «кислород»… А я, прах его знает, что он есть кислород! И вот видите: как вы опять заговорили в разные стороны, то я уже опять ничего не понимаю.
— Откуда же взялся твой кислород?
— Не знаю, ей-богу… да лучше оставьте про это, отец Савелий.
— Нет, нельзя этого, милый, в тебе оставить! Скажи: откуда начало ему, твоему кислороду?
— Ей-богу, не знаю, отец Савелий! Да нет, оставьте, душечка!
— Может быть сей кислород безначален?
— А идол его знает! Да ну его к лешему!
— И конца ему нет?
— Отец Савелий!.. да ну его совсем к свиньям, этот кислород. Пусть он себе будет хоть и без начала и без конца: что нам до него?
— А ты можешь ли понять, как это без начала и без конца?
Ахилла отвечал, что это он может.
И затем громко продолжал:
«Един бог во святой троице спокланяемый, он есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет».
— Аминь! — произнес с улыбкой Туберозов и, так же с улыбкой приподнявшись с своего места, взял Ахиллу дружески за руку и сказал:
— Пойдем-ка, я тебе что-то покажу.
— Извольте, — отвечал дьякон.
И оба они, взявшись под руки, вышли из комнаты, прошли весь двор и вступили на средину покрытого блестящим снегом огорода. Здесь старик стал и, указав дьякону на крест собора, где они оба столь долго предстояли алтарю, молча же перевел свой перст вниз к самой земле и строго вымолвил:
— Стань поскорей и помолись!
Ахилла опустился на колени.
— Читай: «Боже, очисти мя грешного и помилуй мя», — произнес Савелий и, проговорив это, сам положил первый поклон.
Ахилла вздохнул и вслед за ним сделал то же. В торжественной тишине полуночи, на белом, освещенном луною пустом огороде, начались один за другим его мерно повторяющиеся поклоны горячим челом, до холодного снега, и полились широкие вздохи с сладостным воплем молитвы: «Боже! очисти мя грешного и помилуй мя», которой вторил голос протопопа другим прошением: «Боже, не вниди в суд с рабом твоим». Проповедник и кающийся молились вместе.
Над Старым Городом долго неслись воздыхания Ахиллы: он, утешник и забавник, чьи кантаты и веселые окрики внимал здесь всякий с улыбкой, он сам, согрешив, теперь стал молитвенником, и за себя и за весь мир умолял удержать праведный гнев, на нас движимый!
О, какая разница была уж теперь между этим Ахиллой и тем, давним Ахиллой, который, свистя, выплыл к нам раннею зарей по реке на своем красном жеребце!
Тот Ахилла являлся свежим утром после ночного дождя, а этот мерцает вечерним закатом после дневной бури.
Старый Туберозов с качающеюся головой во все время молитвы Ахиллы сидел, в своем сером подрясничке, на крыльце бани и считал его поклоны. Отсчитав их, сколько разумел нужным, он встал, взял дьякона за руку, и они мирно возвратились в дом, но дьякон, прежде чем лечь в постель, подошел к Савелию и сказал:
— Знаете, отче: когда я молился…
— Ну?
— Казалося мне, что земля была трепетна.
— Благословен господь, что дал тебе подобную молитву! Ляг теперь с миром и спи, — отвечал протопоп, и они мирно заснули.
Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутил, что он как бы куда-то ушел из себя: как будто бы он невзначай что-то кинул и что-то другое нашел. Нашел что-то такое, что нести тяжело, но с чем и нельзя и неохота расставаться.
Это был прибой благодатных волн веры в смятенную и трепетную душу.
Ей надо было болеть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась.