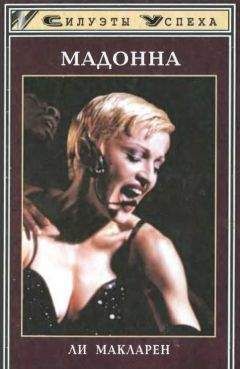когда бы и зачем ни повстречались мы.
Оркестр играет вальс. Тарелки, словно блюдца,
названивают в такт. А в воздухе густом,
едва продравшись сквозь, густые звуки льются,
вливаются в меня... Но это все потом.
А будет ли потом? А длится ли сегодня?
Мне времени темна невнятная игра.
И нет опорных вех, небес и преисподней,
но только: час назад, вчера, позавчера.
Уходит бытие сквозь сжатые ладони,
снижая высоту поставленных задач,
и нету двух людей на свете, посторонней
нас, милая, с тобой. И тут уж плачь - не плачь.
Ссыпается листва. Оркестр играет. Тени
каких-то двух людей упали на колени.
128. СТИХИ К ЮЛИИ
* * *
О льняное полотно
стерты локти и коленки,
и уже с тобой по стенке
ходим мы давным-давно,
как старуха и старик,
чтоб не дай Бог - не свалиться.
Ну а лица, наши лица
все написано на них!
Эти черные круги
под счастливыми глазами...
Вы не пробовали сами?
Вот же, право, дураки!
ЗАВТРАК В РЕСТОРАНЕ
Под огромными лопастями
вентиляторов, мнущих дым,
полупрошеными гостями
в ресторане вдвоем сидим.
Потолок оснащен винтами
и поэтому верит, псих,
что расплющит стены, достанет
до людей и раздавит их.
Он в безумье своем неистов,
собираясь работать по
утонченной схеме убийства,
сочиненной Эдгаром По.
* * *
Минорное трезвучие
мажорного верней,
зачем себя я мучаю
так много-много дней,
зачем томлюсь надеждою
на сбыточность чудес,
зачем болтаюсь между я
помойки и небес?
Для голосоведения
мой голос слишком тощ.
Минует ночь и день, и я,
как тать, уйду во нощь
и там, во мгле мучительной,
среди козлиных морд,
услышу заключительный,
прощальный септаккорд.
И не хуя печалиться:
знать, где-то сам наврал,
коль жизнь не превращается
в торжественный хорал,
коль так непросто дышится
и коль, наперекор
судьбе, никак не слышится
спасительный мажор.
129. СТИХИ К НОННЕ
* * *
Мне б хотелось, скажу я, такую вот точно жену.
Ты ответишь: да ну? дождалась! Ни фига - предложеньице!
Тут я передразню невозможное это да ну,
а потом улыбнусь и скажу: может, вправду поженимся?
Почему бы и нет? Но ведь ты бесконечно горда,
ты стояла уже под венцом, да оттуда и бегала.
Выходить за меня, за почти каторжанина беглого,
неужели же да? Ах, какая, мой друг, ерунда!
Ну а ты? Что же ты? Тут и ты улыбнешься в ответ
и кивнешь головой, и улыбка покажется тройственной,
на часы поглядишь: ах, палатка же скоро закроется!
Одевайся! Беги! Мы останемся без сигарет.
* * *
Берегись, мол: женщину во мне
разбудил ты! - ты предупредила.
Если б знал ты, что это за сила,
ты бы осторожен был вдвойне!
Берегись? Тревожно станет мне,
но с улыбкой я скажу, беречься?
ведь беречься - можно не обжечься,
а какой же толк тогда в огне?
* * *
В ночь карнавальных шествий,
масочных королев,
Ваше Несовершенство,
я понесу ваш шлейф.
Сделаю вид, как будто
Вы недоступны мне,
робким и страстным буду
(на шутовской манер).
А на рассвете липком
Вас, одуванчик мой,
сумрачный сифилитик
стащит к себе домой.
ПИКОВАЯ ДАМА
Ты госпожа зеленого стола.
Ты выстрелов не слушаешь за дверью.
Твой серый взгляд холоден, как скала,
и, как скала, всегда высокомерен.
Но будет день! Удача неверна,
удаче не пристало гувернерство,
и незаметно от тебя она,
тебя не упреждая, увернется.
Тогда-то ты (я этого дождусь!)
с отрепетированностью кульбита
уверенно произнесешь: мой туз.
И вдруг услышишь: ваша дама бита.
COMMEDIA DEL ARTE
В перегаре табачном и винном,
в узких джинсах с наклейкою ?Lee?
обреченно сидит Коломбина
с негром глянцевым из Сомали.
А в мансарде, за столиком низким,
обломав о бумагу перо,
пишет страстные, грустные письма
одуревший от горя Пьеро.
Наверху одинока, беспола,
от московского неба пьяна,
в чуть измятом жабо ореола
забавляется зритель-луна.
* * *
Моей души бегонии и розы
дремучей ночью, словно дикий тать,
я поливаю медным купоросом,
чтобы не смели больше расцветать.
Я буду жить, добрея и жирея,
не зная слез, не ведая тоски.
Душа - не место для оранжереи,
мне надоело холить лепестки.
А вам не жаль? - ночной случайный зритель
бестактно спросит. Я отвечу так:
мне не понять, о чем вы говорите
о купоросе или о цветах.
* * *
Я в краю метели и бурана,
там, где валят лес и роют торф.
На пластинке - Катули бурана,
гармоничный, страстный Карел Орфф.
И хрупка окна поверхность, и млечна,
как устали стекла вьюгу держать!
Эта Лесбия! Зачем она вечна?!
И куда мне от нее убежать?
А время катит тяжелей и заметней.
Я повторяю вслед за диском затертым:
Катулл измученный, оставь свои бредни:
ведь то, что сгинуло, пора считать мертвым.
130. СТИХИ К ИРИНЕ
* * *
От твоей моя обитель
ровно рубль.
Счетчик щелкает. Водитель
крутит руль.
Фонари дневного света
мимо глаз.
Я гляжу картину эту
в сотый раз.
Ах, киношные билеты
заплати!
Хорошо, что нынче лето,
ну... почти.
Не копейка, не полушка
целый рубль!
Дверь такси - кинохлопушка:
новый дубль.
* * *
Покуда нет, не страх
любимого лица,
но что-то там, в глазах,
обрушивается.
Логичен, как загон,
заплеванный подъезд,
истончился в картон
несомый нами крест.
Стечение примет,
хоть не в приметах суть.
От дыма сигарет
уже не продохнуть,
не повернуть назад,
недолго до конца,
и что-то там, в глазах,
обрушивается.
131. СТИХИ К ЛИКЕ
* * *
Словарь любви невелик,
особенно грустной, поздней.
Сегодня куда морозней
вчерашнего, но привык
к тому я, что так и есть,
что тем холодней, чем дальше.
Вблизи все замерзло. Даль же
туманна, и не прочесть
ни строчки в ней из того
нетолстого фолианта,
где два... ну - три варианта
судьба нам дала всего.
* * *
Я тебе строю дом
крепче огня и слова.
Только чтоб в доме том
ни островка былого,
чтобы свежей свежа
мебель, постель и стены,
мысль чтобы не пришла
старые тронуть темы.
Я тебя в дом введу
по скатертям ковровым-.
Только имей в виду:
дом этот будет новым,
дом этот будет наш,
больше ничей! - да сына
нашего: ты мне дашь
сына и дашь мне силы
выдюжить, выжить. Жить
станем с тобой счастливо:
ты - вечерами шить,
я - за бутылкой пива
рукопись править. Дом
позже увидит, как мы
оба с тобой умрем,
вычерпав жизнь до капли,
как полетим над ним,
светлым манимы раем:
так вот тончайший дым
ветром перебираем.
Божьим влеком перстом,
Змея топча пятою,
я тебе строю дом.
Дом я тебе построю.
* * *
Мы не виделись сорок дней.
Я приеду, как на поминки,
на поминки-сороковинки
предпоследней любви моей.
А последней любви пора,
вероятно, тогда настанет,
когда жизнь моя перестанет:
гроб, и свечи, et cetera.
* * *
Я никак не могу отвязаться от привкуса тлена
в поцелуе твоих удивительно ласковых уст:
дикий ужас проклятия - не до седьмого колена,
а до пор, когда мир этот станет безлюден и пуст.
В беспрерывном бурчанье земли ненасытной утроба,
в беспрерывном бурчанье, бросающем в дрожь и в озноб.
У постели твоей на коленях стою, как у гроба,
и целую тебя, как целуют покойников: в лоб.
Вс° мне чудится в воздухе свеч похоронных мерцанье,
вс° от запаха ладана кругом идет голова.
Столкновение с вечностью делает нас мертвецами,
и одной только смертью, возможно, любовь и жива.
132. В СУМРАЧНОМ ЛЕСУ
19 ОКТЯБРЯ
Стихов с таким названием не пишут
без малого уже сто сорок лет.
А листья кленов царскосельских пышут
всем золотом гвардейских эполет,
а в сумасшедшем царскосельском парке,
во льду в столетья смерзшихся минут,
недвижимые статуи, как парки,
для нас, быть может, паутины ткут,
А мы все ищем, ищем панацеи
от бед Отчизны и не просим виз.
Мы - дети царскосельского лицея,
и нужды нет, что поздно родились.
Потом рассудят: поздно ли, не поздно.
А мы, в каком-то - нашем! - декабре,
под медной дланью, распростертой грозно,
окажемся еще внутри каре.
И будут вороны черны как сажа,
и плац в снегу - точно бумаги десть,
и я услышу рядом: здравствуй, Саша!
Я знал, что я тебя увижу здесь.
Ты, Саша, прав: не будет в этом толка,
неукротимый холод на дворе.
Конечно, нам не справиться. Да только
куда ж деваться, если не в каре?
Мы для себя здесь! Что нам до потомства?!
А жаль, что не поедет Natalie