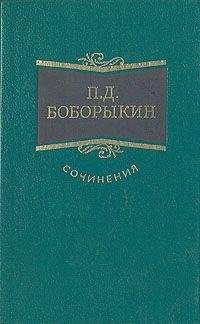Вопрос этот был выговорен серьезно, почти торжественно.
— Не играйте с огнем, Марья Михайловна… Не то что светская женщина, да и глубокий ученый знает слишком мало, чтобы подписаться под этими строчками.
— Значит, — перебила я его, — если я, например, решусь на что-нибудь отчаянное, вы бросите в меня камень без всякой жалости?..
— Других прощать, за собой следить и не потакать себе… вот мой принцип, Марья Михайловна… он тоже, быть может, отзывается прописью?..
Я притихла. Закрывши глаза, я слышала его тяжелое дыхание. Он очень страдал…
— Простите меня, — послышался мне подавленный, почти плачущий голос. — Я с вами хочу говорить о другом… Мне слишком тяжело, Марья Михайловна… Не до самолюбия уж тут! Я бы должен был терпеть, добиваться вашей… дружбы, заслужить ее… Но вы точно бегаете меня. Да и зачем тянуть? Вы меня знаете. Я ничего не утаил перед вами; но сдается мне, что вы чего-то испугались? Чего вы боитесь? Моей учености? Моего деспотизма? Их нет. Они в вашем воображении! Не ставьте вы между мною и вами разных надуманных ужасов! Позвольте мне любить вас… позвольте…
И он умоляющим звуком протянул последнее слово.
Какой ответ на это? Броситься и прошептать "Я твоя!". Он любит меня. Я это знаю. Он хочет принизиться до меня. Я в этом не сомневалась. Разве все это меняет дело? Я обошлась с ним кротко и успокоительно, как "приютская попечительница". Он и не заметил, что я окоченела.
— Александр Петрович, — говорю я ему тоном "казанской сироты", — не создавайте сами ужасов, я ничего не боюсь… только не торопите меня…
Как предательски я надувала его!..
Он радостно притих. Бальзам подействовал.
— Володя о вас очень соскучился, — продолжаю я материнским тоном, — хотите, я пришлю вам его послезавтра на целый день?
— Великий праздник будет для меня, Марья Михайловна!
— Я его вам скоро совсем отдам на воспитание…
Он что-то такое пробормотал. Я чувствовала, что его душит потребность говорить, изливаться, целовать мои руки, может быть, даже прыгать по гостиной…
Я окоротила эти лирические порывы. Ему довольно было надежды. Ведь она же лучше достижения цели? Он не посмел оставаться дольше.
— Прощайте, Александр Петрович, — выговорила я, кажется, очень спокойно, но он вздрогнул.
— Какое странное "прощайте", — вымолвил он.
Я его держала за руку. Мы стояли в дверях. В гостиной было светло только около стола. Лицо его белелось предо мною. В полумраке каждая его черта вырезывалась и выступала наружу. Скажи он еще одно "милостное слово", и я бы, пожалуй, кинулась к нему. Но чему быть не следует, того не бывает. Ведь это на сцене да в романах "на последях" лобызаются всласть… Он не Ромео, я не Юлия. Я досадила Спинозе: хотела выдержать и выдержала…
— Володя давно спит, — сказала я на пороге. — Я ему завтра объявлю радость.
— А завтра вы дома.
— Не целый день.
Другими словами: являться не дерзай.
— Любите Володю.
— Люблю и буду любить.
— Не поминайте меня лихом.
— Ха, ха.
Слезы, слезы, где же вы?..
4 ноября 186*
После обеда. — Воскресенье
Я скрутила Степу, он так и присел.
— Степа, — говорю ему, — я не жилица на этом свете.
— Как, что?
Вытаращил глаза; глупо смеется. По голосу моему он разгадал, что я не шучу…
Прежде, чем потекли его "мудрые речи", я схватила его за обе руки, долго-долго смотрела в его добрые, испуганные глаза и потом одним духом проговорила:
— Завтра ты мне нужен. Приходи утром. Никаких разводов! Ты видишь, что я не нервничаю. Исполни все, о чем я попрошу тебя. Не выдай твоего друга, твою беспутную Машу.
Лицо Степы передернулось. Он вдруг покраснел, потом сделался белый-белый. Я думала, он упадет в обморок.
Прямой сангвиник!
— Маша! — вскрикнул он наконец. — Господи!..
И голос у него перехватило. Жалкий он мне показался, маленький; просто стыдно мне за него стало.
— Что же это? — еле-еле выговорил он. — Безумие или агония?
— Просто смерть, — ответила я.
— Но он тебя любит, Машенька, он твой, бери его, живи, моя родная, живи!
И Степа целовал мои руки, колени, обнимал меня, безумный и растерянный, рыдал, как малый ребенок; то начинал болтать, то кидался бегать по комнате, грыз свои ногти, то опять на коленях умолял меня бессвязными словами, больше криком, чем словами.
Я смотрела на все это, как на истерический припадок. Эта братская любовь, это бессильное отчаяние не трогали меня.
— Полно, — сказала я ему строго, — ты ведь мудрец.
Он опустил руки и несколько минут сидел, точно убитый.
— Мудрец, — повторял он смешно и отчаянно, — мудрец.
Мужской ум взял, однако ж, верх. Он отер платком широкий лоб, помолчал и выговорил обыкновенным своим тоном:
— Но это слабость, Маша.
— А ты силен? — прервала я его. — Ты и от чужой-то смерти хнычешь.
— Это преступная измена…
— Чему?
— Чувству матери!..
— А разве я мечу в героини, Степа? Да, я преступница в глазах всех добродетельных и здоровых людей. Они — добродетельны и здоровы. Я — беспутная и больная бабенка. Доволен ты теперь?
— Не верю я этому! — крикнул Степа. — Нельзя вдруг, так, сразу, без смыслу и толку покончить с жизнью!
— Без смыслу и толку? — повторила я, — может быть, но не так, неспроста, Степа…
На столике, около кушетки лежала моя тетрадь.
— Видишь ты эту записную книжицу. В ней ты все найдешь. Она пройдет через твои руки…
Он со злобой взглянул на мой журнал, схватил его и, если бы я не удержала, он бы начал рвать листы.
— Писанье, проклятое писанье! — глухо простонал он.
— Да, мой дружок, — тихо и с расстановкой проговорила я, — вы, гг. сочинители, научили меня "психическому анализу". Ты увидишь, какие успехи я сделала в русском стиле. У меня уже нет "смеси французского с нижегородским", с тех пор, как вы занялись моим развитием.
Добивала я моего бедного Степу с какой-то гадкой злобой…
— Мы всему виной! — завопил он, точно ужаленный, — мы со своим ядом вносим всюду позор и смерть! Гнусные болтуны, трехпробные эгоисты, бездушные и непрошеные развиватели!..
"Поругайся, поругайся, — думала я, — вперед наука…"
— Но этому не бывать, Маша. Это бред! Я бегу за ним!..
— Ты не смеешь, Степа. Это будет глупое и смешное насилие. Да и какой толк? Он мне сказал, что любит меня; да, он забыл свое многоученое величие и весьма нежно изъяснялся. Я… своего величия не забыла и… не изъяснялась… Неужели ты думаешь, что я, как девчонка, не вытерплю и брошусь ему на шею, коли ты его притащишь, точно квартального надзирателя, "для предупреждения смертного случая?" Какой ты дурачок, Степа!..
На этот раз он понял меня. С детской нежностью припал он ко мне и ласкал меня с притаенным отчаяньем. Рука его гладила мои волосы и дрожала. Я почувствовала, что меня начинает разбирать.
— Степа, — шепнула я ему, — довольно "за упокой", повремь немножко…
4 ноября 186*
Ночью. — Воскресенье
Тихо в детской. Я вошла. Лампада за гипсовым абажуром чуть-чуть дрожала. Тепло мне вдруг сделалось в этой комнате, тепло и сладко.
Лица Володи не видно было. Оно сливалось с подушкой. Я наклонилась к кроватке. Ровное, еле слышное детское дыхание пахнуло на меня…
Николай мне всегда говорил, что и я дышу, как дитя. Я его тут вспомнила, глядя на его сына…
Полчаса просидела я у кроватки. Я не бросилась целовать моего толстого бутуза… Зачем эти театральные пошлости!.. Если б он понимал меня, он бы уже страдал; а теперь он только для себя живет… На здоровье, голубок мой, на здоровье!..
Осудит он меня или оправдает, когда взойдет в возраст? Не знаю. Что об этом думать! Монумента мне не надо от потомства. Пускай ему расскажут правду… Это главное…
Разметался он по кроватке. Одеяло сбросил совсем. Я его не прикрывала. В комнате тепло.
Видел ли он во сне, что его мама сидела над ним и думала свою последнюю думу?.. Я приложилась к теплой грудке Володи.
"Поклонись дяде, мой сердечный мальчуган, живи с ним, он тебя выняньчает лучше мамы".
Шепот мой разбудил его на одну секунду. Он обнял меня и, перевернувшись, замер опять…
"Баиньки, глазок мой, баиньки…"
5 ноября 186*
Днем. — Понедельник
Вот мое завещание. Его писал Степа. Бедный мальчик писал и плакал… точно баба. А я улыбалась… Мне ни капельки не страшно. Во мне так много любви, что дико было бы думать о себе, да еще в такую минуту…
"Друзьям моим и сыну.
Я перестала жить по собственной воле. Без сил и убеждений можно только влачить ту жалкую суету, которая довела меня до смерти. Я не прошу ни оправданий, ни суда. Я прошу, чтобы сыну моему отдан был в руки мой дневник, когда он в состоянии будет понимать его. В нем он найдет объяснение моего конца и, быть может, добрый житейский урок. Александра Петровича я умоляю не оставлять Володю. Он должен быть его наставником. Я была бы для моего сына пагубой. Неосмысленная любовь — не любовь. Я уношу с собою благоговейное чувство к человеку, который показал мне высокий смысл и красоту жизни! Моя дрянная натура и тот гнилой мирок, где все тлен и ничтожество, вместо новой и чудной жизни, свели меня в добровольную могилу. Брат мой Степа настоит на том, чтобы воля моя была исполнена, чтобы Володя отдан был на воспитание Александру Петровичу. Остальное по имению пусть делают, как знают. Все вещи, напоминающие мою пустую и безнравственную жизнь, пускай пойдут прахом! Я не смею и просить о том, чтобы вы, друзья мои, сохранили обо мне добрую память. Самоотверженная дружба Степы вырвала меня из грязи. Он простит мне, что из его задушевных усилий вышел такой неудачный плод. Простит мне и Александр Петрович мое предсмертное притворство. Другая, светлая, чистая и разумная любовь ждет его. Я вижу отсюда женщину — сподвижницу, идущую с ним рука об руку к его высоким целям. Она полюбит моего Володю. В этом семействе он станет человеком и другом человечества. Живите же, три существа — избранники моего безумного сердца, живите долго-долго и не забывайте моего горячего, бесконечного привета".