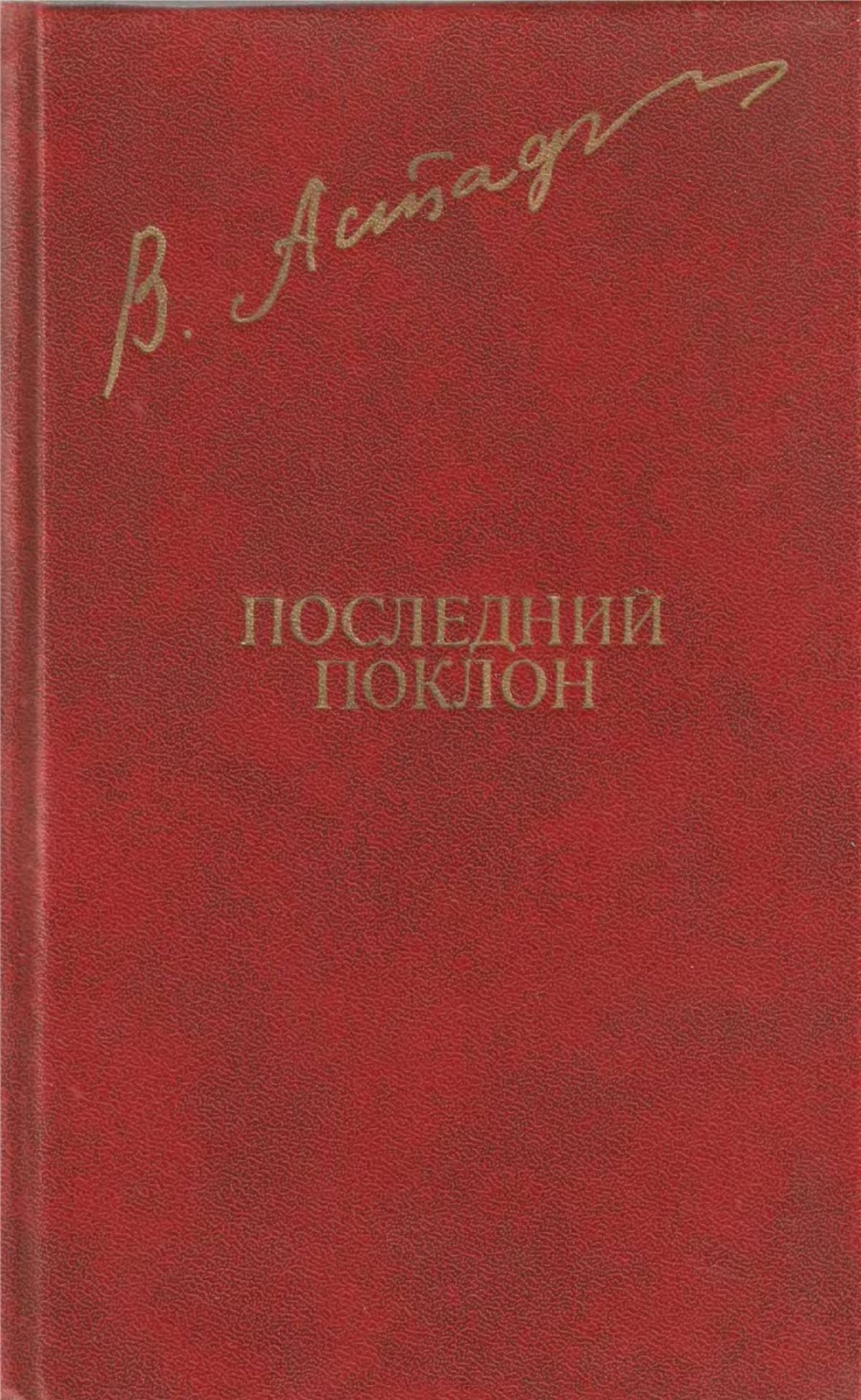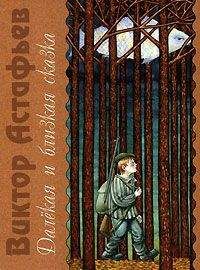и грош ей цена!
В середине речи бабушка прервала ораторшу:
— Хорошо высказываешься, Татьяна! А вот штаны-то есь ли на тебе?
Бабушка совершенно была уверена, что штанов на невестке нет. Но Татьяна подняла подол и показала всему народу штаны, холщовые, из мешка сшитые, но штаны. Бабушка убралась из клуба под громкий хохот, а Татьяна с тех пор не знается с нею и в доме нашем не бывает.
Дядя Митрий определился в стороне, на табуретке. Все переминались, ждали чего-то с посудой в руках, покашливали. Августа нашлась первая, расшибла напряжение:
— Ну, подняли, подняли! Рука-то не казенная! Мама, за твое здоровье! Тятя, с именинницей тебя! — и бабушка поощрила деда:
— Пей по всей да привечай гостей!
Истомившиеся мужики быстренько опрокинули водку, и, пока женщины еще жеманились, пригубляли чуть, совестясь друг дружки, они принялись за дело: потащили со сковороды ельцов, студень, и никто, кроме бабушки, не замечал, что дядя Митрий спрятал руки под столом и не отпил даже глотка.
Возникла вторая четверть. Теперь уже сыны приняли ее от деда, хватит, мол, поработал на них, пора самим за ум браться. После второй застолье колыхнуло смехом, говором, и вскорости нас, ребятишек, спросили, наелись ли мы, дали орехов, конфет и с гостинцами выдворили из-за стола, приставку убрали, чтоб посвободней было в горнице.
Бабушкин праздник начался!
Мы залезли на полати, оттуда все видно. Алешка представлял из себя вдребезги пьяного человека, и такой он был потешный, что все мы покатывались со смеху.
В горнице раздался властный и насмешливый голос Августы. Подражая Таньке-активистке, она стучала вилкой по пустой четверти:
— Мужичье! Тих-ха! Мама, заводи!
— Да где уж мне, девки? Обезголосела я.
— Помогаем!
— Ну уж, ладно уж, будь по-вашему, — смягчилась бабушка, и голос у нее такой, будто она век всем уступала:
Тее-че-от ре-е-еченька-а-а-а-а…
Те-ече-от бы-ы-ы страя-а-а-а…
Бабушка запевала стоя, негромко, чуть хрипловато и сама себе помахивала рукой. У меня почему-то сразу же начало коробить спину, и по всему телу россыпью колючек пробежал холод от возникшей внутри меня восторженности. Чем ближе подводила бабушка запев к общеголосью, чем напряженней становился ее голос и бледней лицо, тем гуще вонзались в меня иглы, казалось, кровь густела и останавливалась в жилах.
Ой, да как по то-о-ой
По реке-е-е-е…
Сильными, еще не испетыми, не перетруженными голосами грянуло застолье, и не песню, а бабушку, думалось мне, с трудом дошедшую до сынов своих и дочерей, подхватили они, подняли и понесли, легко, восторженно, сокрушая все худое на пути, гордясь собою и тем человеком, который произвел их на свет, выстрадал и наделил трудолюбивой песенной душой.
Песня про реченьку протяжная, величественная. Бабушка все уверенней выводит ее, удобней делает для подхвата. И в песне она заботится о том, чтобы детям было хорошо, чтоб все пришлось им впору, будила бы песня только добрые чувства друг к другу и навсегда оставляла бы неизгладимую память о родном доме, о гнезде, из которого они вылетели, но лучше которого нет и не будет уж никогда.
Вот и слезы потекли по бабушкиному лицу, там и по Августиному, по тети Марииному. Дядя Митрий, так и не притронувшийся к вину и к закуске, закрылся рукавом, сотрясался весь, и ворот просторной дедушкиной рубахи на шее его хомутом подскакивал.
Бабушка хоть и плакала, но не губила песню, вела ее дальше к концу, и, когда, звякнув стеклами, в распахнутые створки окон улетели последние слова «Реченьки» и повторились эхом над Енисеем-рекой, над темными утесами, в нашей избе началось повальное целование, объяснения в вечной любви, заглушаемые шмыганьем потылицынских носов, зацепившись за которые и большой ветер остановится, и про которые, хвалясь, говорят: пусть не богаты, зато носы горбаты!
— Мама! Мамо-о-онька-а-а!
— А где тятя-то? Тятя-то где? Тя-а-атенька-а-а!..
— Брат ведь ты нам, бра-ат! — обнимали все подряд дядю Митрия.
Он согласно тряс головой и испуганно поглядывал по сторонам. Он совершенно трезв, потерян, одинок тут. Жалко дядю Митрия.
Я тоже плачу, затаившись в уголке, но негромко плачу, для себя, утираю со своего, тоже потылицынско-го нос?: кулаком слезы.
В такой момент, какими путями появляются в нашем доме и оказываются за столом Мишка Коршуков — напарник дяди Левонтия по бадогам и сам дядя Левонтий, — объяснить невозможно. Мишка Коршуков с гармошкой, клеенной по дереву и мехам, дядя Левонтий со своей вечной улыбкой от уха до уха.
— Как у нашего соседа развеселая беседа! — приплясывая, шествовал к столу дядя Левонтий. — Гуси в гусли, утки в дудки, тараканы в барабаны! Ух, ах! Тарабах!
А Мишка Коршуков, вытаращив глаза, коротко доложил:
— Где блины — тут и мы!
— Левонтий! Мишка! Едрит-твою! А ну, зыграй!
— Дай обопнуться людям! — остановила бабушка наседающих на Левонтия и Мишку Коршукова сынов и, полагая, что раз занесло незваных гостей в дверь, глядишь, вынесет в трубу, налила им сразу по полному стакану, поскольку рюмки и прочая подобная посуда для такого народа — не тара — наперсток.
Дядя Левонтий и Мишка Коршуков, стоя рядом, чокнулись с бабушкой, с дедушкой.
— С ангелом, Катерина Петровна! С праздничком! Со свиданьицем!
— Кушайте, гости, кушайте, дорогие!
Бабушка притронулась губами к рюмочке и отставила ее.
— Гостю — воля, имениннику — почет!
Мишка Коршуков и дядя Левонтий пили удало, согласованно, будто бадоги кололи, кадыки у них громко, натренированно двигались, в горле звонко булькало.
— Хороша, да горьковата! — возгласил дядя Левонтий и сплюнул под стол.
Мишка высказался, как всегда, следом за старшим товарищем:
— Нет той птицы, чтоб пила-ела, но не пела! — и поднял с пола гармошку, пробежал по пуговицам проворными пальцами.
Ребятишки столпились в дверях горницы, ждали музыки с замиранием сердца. И вот пошла она, музыка! Мишка Коршуков широко развел гармошку и тут же загнул ее немыслимым кренделем. Оттуда, из сплатного этого кренделя, чуть гнусавая, ушибленная, потому как Мишка не раз уже разрывал гармонь пополам, вынеслась мелодия, на что-то похожая, но узнать ее и тонкому уху не просто.
Мишка дал направление:
Раз полоску Маша жала,
За-ла-ты снопы вязала-а-а-а,
Мо-ло-дая-а-а-а…
И все радостно подхватили:
Э-эх, мо-о-лода-ая-а-а-а…
Сделав начин, Мишка наяривал, подпрыгивал на скамейке, будто на лошади. Ему сунули в руку стакан с водкой, он выждал момент, когда можно отойти на второй план, когда песельники справятся и без него, подыгрывая одной рукой на басах, другой поднес стакан ко рту.
— Ты бы