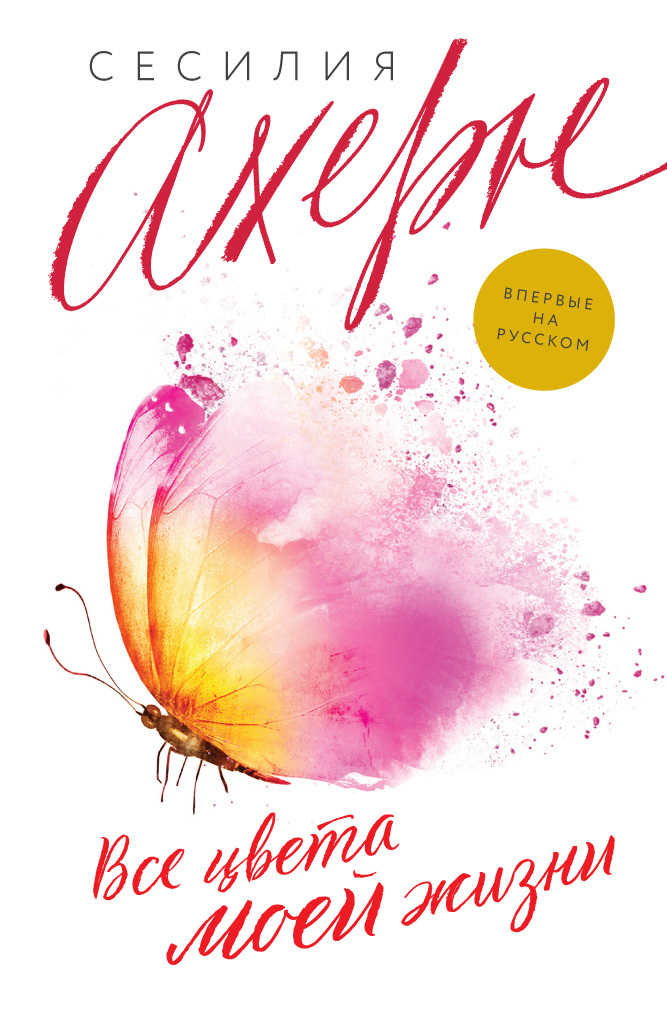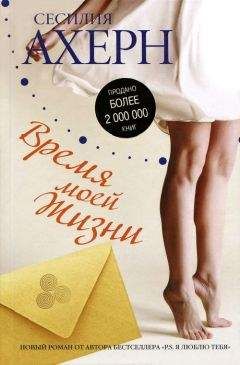на них, пользуюсь ими, как отправной точкой, и уже потом решаю, кем или чем хочу быть. С Энди все по-другому; с ним я счастлива и защищена как никогда, но в то же время не уверена и ранима.
– Почему тебе поменяли лекарства?
– Потому что другие не действовали.
Официант ставит на стол горячее.
– Мне во всем в этом ни за что не разобраться, – вздыхает она.
– Спасибо, – киваю я официанту.
– Это что? – спрашивает она, тыча ножом в мою тарелку.
– Каннелони.
– Что-что?
– Такие толстые макаронины, с начинкой из сыра и шпината.
– Элис, – брюзгливым тоном произносит она и принимается за еду. Поднимает с середины блюда листок базилика и откладывает на край, как будто это волос.
– Черный перец? – У стола вырастает официант с мельницей гигантского размера.
– Ты подумай, какая здоровая! – комментирует она.
– Нет, спасибо, – отвечаю я официанту.
– Пармезан? – задает он следующий вопрос.
– Сыр, – поясняю я ей.
– Я не толстая, – громко говорит она.
Я смотрю на официанта; он сочувственно улыбается мне и уходит.
– А эти лекарства сильнее, – замечаю я.
Я бы сказала даже – тяжелее. Прежде всего цвет у них не такой, как у других; он окружает ее настроение, как будто бактерию, но не как те, другие, сокрушает его – такие они тяжелые.
– Я от них устаю.
– А помнишь, ты принимала другие таблетки, которые тебе прописали? Они всегда на тебя хорошо действовали.
– Да, принимала, – громко произносит она и вспоминает, где находится. – Иногда только забывала. Олли надо мной с палкой не стоит, как ты.
– Спасибо за комплимент.
Она отправляет в рот большую порцию пасты и нахваливает:
– Вкусная!
Я довольна и на волне позитива открываюсь ей:
– Я встретила одного человека…
– Да? – Она смотрит на меня и недобро усмехается.
– Зовут Энди. Он из Шотландии.
– А когда ты ездила в Шотландию?
– Не ездила. Мы в Лондоне познакомились.
– И я ничего не знаю, да? Ничего не знаю, что ты делаешь.
Повисает молчание.
– Ничего не понимаю, что эти шотландцы говорят.
Я смеюсь, глупо улыбаюсь, вспоминая о нем, и говорю:
– Да, иногда он необычно выражается.
Она все ест. Крошечная женщина, которая сказала, что больше в нее не влезет, без труда расправилась с огромной тарелкой макарон пенне.
– Он специалист по работе с молодежью.
– Это как?
– Помогает подросткам и вообще молодым, до двадцати пяти лет.
– Трудным, значит? – спрашивает она с усмешкой. – Ничего удивительного, что тебя угораздило. Платят хоть или так, волонтер?
– Платят.
– Ну и хорошо.
Она берет вилку и закидывает макароны в рот так быстро, что я даже не понимаю, когда она успевает их прожевывать.
– Сколько лет?
– Тридцать шесть.
Она удивленно поднимает брови и спрашивает:
– Женат?
– Нет!
– Точно знаешь? Им ведь соврать – раз плюнуть.
– Нет, не женат.
– В его годы и не женат… Он что, не живет с женой или разведен? Не хочешь же ты, чтобы его гроши уплывали в другую семью.
– Нет, не то и не другое. И потом, я могу сама себя обеспечивать.
– Вот и я об этом, – говорит она, но теперь уже добродушно; это понятно по тому, как она кладет вилку на пустую тарелку и вздыхает:
– Вот наелась так наелась!
– Я пришла без подарка…
– Да ничего мне не надо! – перебивает она, не желая говорить о своем дне рождения.
– Но сегодня мы его заберем из магазина. Это здесь, недалеко.
Вот почему я выбрала этот ресторан.
Я рассчитываюсь, и на выходе она рассыпается в благодарностях и комплиментах. Она твердит всем, что вкуснее еще ничего не ела.
Нужный нам магазин совсем рядом и, когда она замечает его, то замолкает и в ее голове начинают шевелиться беспокойные мысли; в этом я не сомневаюсь.
Никогда не забуду, какое у нее сделалось лицо, когда продавец выкатывает электрическое кресло, обвязанное большим красным бантом. Бант – это наверняка Хью придумал.
– От нас с Хью… и Олли, – не без труда добавляю я. Он не дал ни гроша, но она и так это узнает.
В глазах у нее появляются слезы, и дрожащими руками она закрывает лицо.
* * *
Для свадьбы друзья Энди сняли в Эдинбурге поместье, когда-то принадлежавшее аристократу, – красивое, внушительных размеров здание шестнадцатого века, которое много раз достраивали и подновляли. Бракосочетание состоится в часовне там же, в поместье, а шампанское будут подавать в огромной гостиной, которая выходит на большую лужайку и пышные ухоженные сады, куда меня очень тянет. Потом все переместятся в шатер, где и будет прием.
Я начинаю волноваться с того дня, когда Энди просит меня поехать на эту свадьбу вместе с ним. Мы встречаемся уже пять месяцев, и до сих пор мне удавалось не пересекаться с его друзьями. С того момента, когда мы начали узнавать друг друга – если не считать поездок на работу и того, что на выходные мы ездили то домой ко мне, проверить, как дела у Лили, то домой к нему, – мы ухитрялись никого не вмешивать в свои отношения, и это меня вполне устраивает. А теперь мы переходим на следующую ступень, я это чувствую и не очень понимаю, смогу ли. Я боюсь, что он увидит мои настоящие цвета. Я придумала множество отговорок, чтобы отвертеться от этого, – от запарки на работе до поездки к Лили, – но он не дурак и сразу поймет, что я отбиваюсь от этой поездки руками и ногами. В конце концов приходит взрослое решение. Если я хочу, чтобы наши отношения продолжались, – а я хочу этого, – то делаю усилие и еду с ним в Эдинбург.
Он знает, что я часто нервничаю. Много раз он видел это в поездах, в ресторанах, в кафе: мне не все равно, где сидеть, мне хочется, чтобы за столом не было никаких негативных вибраций, бывает, меня прямо тянет пересесть, я прошу об этом официанта, пересаживаюсь то туда, то сюда, и он терпеливо все это переносит, потому что сам чувствителен не меньше моего. В любой комнате он предпочитает сидеть лицом к двери и терпеть не может, когда оказывается к ней спиной. Он ни за что не заснет, если дверь гардероба приоткрыта хоть чуть-чуть, если не надел маску для глаз, если в спальне не полная темнота. У каждого из нас свои причуды, и мы их принимаем, но он не знает, чего ожидать от меня на свадьбе. Тем более на свадьбе, которая проходит в шатре, поставленном на поле, бывшем когда-то полем битвы.
Глубокая печаль охватывает меня, как только я выхожу из машины. На таком печальном поле я еще ни разу не была. А