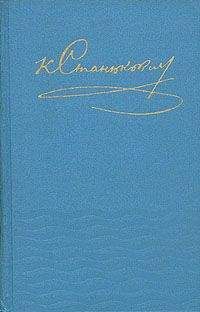Заречный уже в гостиной решил, что попросит студента зайти в другой раз, в более удобное время, а сам сделает попытку — напишет письмо Рите, в котором… Он сам не знал в эту минуту, что напишет ей, но ему казалось, что он должен это сделать…
Но у Николая Сергеевича не хватило решимости отправить неприятного гостя, когда он вошел в кабинет и увидал этого низенького бледного студента с большими черными глазами, лихорадочно блестевшими из глубоких впадин. Здесь, в полусвете кабинета, освещенного лампой под большим зеленым абажуром, этот вскочивший и, казалось, совсем растерявшийся молодой человек казался еще бледнее, болезненнее и жалче, чем в университетской аудитории, в своем ветхом сюртуке и худых сапогах. Словно бы смерть уже веяла над этой маленькой фигуркой с вдавленной грудью.
Охваченный жалостью, Заречный невольно вспомнил худенькое, почти летнее пальтецо студента, висевшее на вешалке. И в нем он пришел в трескучий, двадцатиградусный мороз. И заставлять его приходить еще раз. Это было бы жестоко!
И, протягивая студенту руку, Николай Сергеевич извинился, что заставил его ждать, и, усадив его в кресло, предложил ему чаю.
Студент испуганно и вместе с тем решительно отказался. Он не хочет. Он только что пил чай. И он вообще не любит чая.
И, видимо чем-то взволнованный, порывисто проговорил:
— Я не задержу вас, господин профессор… Я сейчас же должен уйти… Собственно говоря… Извините, господин профессор… Я буду с вами говорить откровенно… Да как же иначе и говорить?
— Пожалуйста, говорите, у меня время есть. Вы ведь хотели, господин Медынцев, посоветоваться насчет книг.
— Да. И насчет книг, и вообще поговорить… уяснить некоторые вопросы, которые меня мучат, насчет практической деятельности, разрешить сомнения… Но я теперь не за тем пришел… Вы простите, пожалуйста, я должен по совести говорить… Я, видите ли, пришел только потому, что обещал, но я не хотел идти… Перерешил…
Он торопился говорить, задыхался и наконец закашлялся, беспомощно прижимая свои тонкие, точно восковые пальцы к груди.
Этот глухой кашель с клокотанием в груди продолжался с добрую минуту. Заречный подал своему гостю стакан воды и участливо проговорил:
— Да вы не волнуйтесь, господин Медынцев. Не торопитесь, ради бога… Вы меня нисколько не задерживаете… У меня время есть.
— Это сейчас пройдет… Вот и прошло… Собственно говоря, этот кашель… У меня чахотка! — вдруг проговорил Медынцев и как-то застенчиво улыбнулся, словно бы извиняясь, что у него чахотка и он не может не кашлять.
Он выпил стакан воды, минутку передохнул и снова торопливо и возбужденно заговорил, глядя на Заречного почти в упор.
Эти большие чудные глаза глядели на профессора строго, пытливо и в то же время страдальчески. В их взгляде теперь уж не светилось той благоговейной восторженности, какая была, когда Медынцев говорил с Николаем Сергеевичем в университете.
И от этого строгого проникновенного взгляда несчастного больного студента Заречный невольно испытывал какую-то душевную смятенность, точно в чем-то виноватый.
— И вот вследствие того, что перерешил, я и не хотел идти к вам, господин профессор.
— Что вам за охота называть меня господином профессором здесь, у меня дома. Называйте меня по имени. А как ваше имя и отчество?
— Борис Захарович…
— Но почему же вы перерешили, Борис Захарыч? — спросил, почему-то понижая голос, Заречный, и чувствуя, что невольно краснеет под этим серьезным глубоким взглядом юноши.
На мгновение краска залила мертвенно-бледное лицо Медынцева. Выражение глубокого страдания светилось в его глазах. Смущенный донельзя, он, казалось, переживал минуту душевной борьбы.
— Почему перерешил, хотите вы знать? — переспросил он наконец.
— Да. Говорите. Не стесняйтесь, прошу вас.
— Я не стесняюсь. Я и пришел, чтобы объясниться. Но мне самому тяжело, больно, обидно!
Он помолчал, словно бы собираясь с силами, и голосом, дрожащим от волнения и полным тоски, со слезами на глазах продолжал с порывистою страстностью:
— Я так беспредельно уважал и любил вас, Николай Сергеич, что готов был положить за вас душу… Я говорю, верьте мне. Ваши лекции были для меня откровением и, так сказать, намечали мне будущий жизненный путь. Они будили мысль, заставляли работать и верить в идеалы. Я молился на вас. Я видел в вас профессора, для которого наука нераздельна с силой убеждения. Вы служили мне примером. Вы поддерживали во мне бодрость и веру в торжество правды…
Медынцев перевел дух и продолжал:
— И вдруг… вдруг эта ваша речь… Этот призыв к молчалинству. Это восхваление компромисса во что бы то ни стало… На лекциях ведь вы не то говорили… О господи! Зачем вы сказали эту речь? За что вы заставили не верить вам и — простите — не уважать вас… Неужели же ваша речь была искрення? Тогда кому же верить? Профессору или оратору? — почти крикнул, задыхаясь, Медынцев, и слезы хлынули из его глаз.
И, странное дело, Заречный не гневался за эту страстную речь, дышавшую искренностью и тоской восторженного честного юноши, разочаровавшегося в учителе, которого боготворил. Страшно самолюбивый, Николай Сергеевич даже не испытывал боли оскорбленного самолюбия и не пытался отнестись к филиппике Медынцева с высокомерным презрением непонятого человека.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Видимо потрясенный этими словами юноши, профессор молчал.
И это молчание и грустный вид Заречного смутили студента. И он порывисто проговорил, утирая слезы:
— О, простите меня, Николай Сергеич… Я позволил себе… Но если б вы знали…
— Я не сержусь, — мягко, почти нежно остановил его Заречный… — Я понимаю вас…
Когда студент ушел, Заречный долго еще сидел неподвижно за письменным столом.
Он невольно припоминал эти страстные упреки молодой души, и с ним произошло что-то особенное.
Он не сердился и не обиделся, а в приливе охватившей его тоски, в каждом слове этого бедняги, стоявшего одной ногой в гробу, чувствовал горькую правду и свою вину перед ним.
«И перед ним ли одним?» — пронеслось в голове у профессора.
XX
Часов около одиннадцати Маргарита Васильевна вернулась домой. С ней был Невзгодин.
В ярко освещенной прихожей Катя подозрительно оглядывала обоих. Лицо Маргариты Васильевны казалось ей возбужденным.
— Пожалуйста, Катя, самовар поскорей.
— Сейчас будет готов.
— А вы что же так рано из гостей? — ласково спросила Маргарита Васильевна, обратив внимание на щеголеватое праздничное платье горничной.
— Я не ходила со двора, барыня.
— Что так? Раздумали?
— Раздумала.
— Идемте, Василий Васильевич, ко мне!
И с этими словами Маргарита Васильевна прошла через гостиную в свой маленький кабинет.
Катя побежала вперед, чтоб зажечь лампу.
— Так очень проскучали на нашем собрании, Василий Васильич? — спрашивала Заречная, опустившись на диван и оправляя свои сбившиеся под шапочкой золотистые волосы.
— Порядочно-таки.
Невзгодин закурил папироску и, усаживаясь в маленькое кресло, продолжал:
— Благотворительные дамы вашего попечительства напомнили мне соседку за обедом на юбилее Косицкого… Так же болтливы и с таким же самодовольным апломбом говорят о пустяках.
— И я на вас произвела такое же впечатление?..
— Вы хоть были лаконичны, Маргарита Васильевна!
Катя, намеренно долго поправлявшая абажур, слушала во все уши.
В ее лукавых темных глазах, острых, как у мышонка, сверкнула усмешка, и они снова недоверчиво скользнули по Маргарите Васильевне.
«Все-то ты врешь!» — говорили, казалось, глаза горничной.
Она вышла из комнаты, плотно затворив двери, шмыгнула в прихожую и оттуда бегом побежала к подъезду.
Отворив двери, она спросила извозчика, стоявшего у панели:
— Ты сейчас привез барыню с барином?
— Я самый.
— Откуда ты их привез?
— Со Стоженки.
— С улицы посадил?
— Нет, касатка, из дома взял. Оттуда много барынь выходило. А ты чего расспрашиваешь? На чаек, что ли, господа выслали? — спросил, смеясь, извозчик.
Катя быстро скрылась в двери.
Она возвратилась на кухню и стала разогревать самовар, не совсем довольная, что ее подозрения о барыне и Невзгодине не подтвердились. Она была уверена, что ссора, и, по-видимому, серьезная, между мужем и женой вышла из-за Невзгодина. Они, наверно, влюблены друг в друга, хоть и отводят людям глаза, и оттого бедный Николай Сергеич сослан в кабинет.
«Нашла, дура, на кого променять!» — подумала Катя, горевшая желанием открыть глаза Николаю Сергеевичу, чтобы он по крайней мере не мучился напрасно.
И сегодня, когда после обеда приехал Невзгодин и ушел вместе с Маргаритой Васильевной, Катя почти не сомневалась, что они отправились на тайное свидание. Оказывается, они действительно были в попечительстве. Катя не раз там бывала.