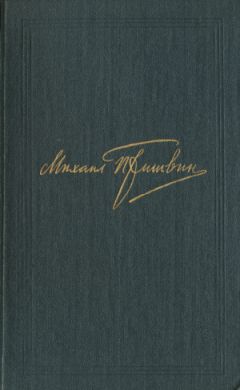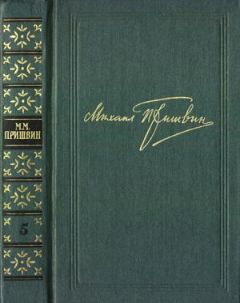Где это было – теперь я совсем не могу припомнить. Помню только, что эти медленные и какие-то вялые духом буйволы остановились перед небольшим деревянным домиком, что вышла из домика невзрачная женщина, неплохо понимавшая по-русски, и после коротких наших объяснений почтительно поклонилась и провела нас в комнату с простыми тахтами и скромными коврами на стенах. С сердечным сокрушением мы подумали каждый про себя, что, может быть, это и есть сама княжна…
Закусив немного кое-чем из своего провианта, мы уже начали было внимательно вглядываться в ковры и тахты, чтобы расположиться на покой, как вдруг в невидимую дверь, завешенную ковром, как будто кто-то очень осторожно постучал. Каждый из нас подумал, что это так показалось, и в то же время уверился, что стук действительно был, не могло так всем показаться. Молча мы смотрели туда, на скрытую дверь, и ждали. Скоро стук явственно повторился, и после нашего хорового приглашения в комнату нашу вошла та самая княжна, какую мы про себя ждали, и, может быть, даже лучше. Трудно теперь сказать, какая она была в действительности: только одно помню, что цвет лица ее был не обычный смуглый, кавказский, а светлый, и над большими черными глазами была темного бархата грузинская шапочка, и на круглые плечи от шапочки спадал белый газ, и что тут с ней пришел весь Лермонтов, и кремнистый путь под звездами, и Арагва, и царица Тамара… Она кланялась нам, улыбаясь, и сейчас же принялась нам служить: сама принесла вино и сыр с травами и что-то еще, и еще, а когда мы поели, носила нам подушки, белье, одеяла.
И так мы уснули, помня, что тут же за дверью спит наша княжна, и наше молчанье было еще более суровым, чем как тогда, при звезде.
Но утром случилось то самое несчастье, какого мы так боялись. Я расставил, как обычно, своих рабочих, а сам устроился на столике под тенистым деревом, и только что стал переводить последнюю часть книги Бебеля – о женщине будущего, как рабочий принес мне корешок и просил его рассмотреть. Привычной рукой взял я лупу, глянул и обмер… Весь корешок виноградной лозы был покрыт тесными желтыми оспинками филлоксеры. Но мало того! Когда с бугорка мы поглядели на виноградник, то весь он представлял собою типичную филлоксерную чашу: зеленые бодрые края, постепенно снижаясь, становились к центру желтыми.
Скрепя сердце мы стали изучать и описывать виноградник по всем правилам, брали и заделывали в пробирки всякие образцы, составили акт… Вечером оставалось нам этот акт подписать, но пришла опять княжна со своим угощением, и рука не налегла его подписать. Ведь, может быть, виноградник был ее единственным источником дохода, и он мог бы ее еще долго кормить, но мы должны сжечь его, уплатив какую-то ничтожную сумму денег.
Ничего мы не говорили княжне, но, наверно, она догадывалась: была очень печальна и сдержанна. Мы были растерянны и ничего не говорили друг другу, но каждый считал невозможным делом сжечь виноградник. Каждый про себя подумывал, как бы все-таки увильнуть самому от такой беды. Но что было делать? Каждому про себя, конечно, можно было решать все, как хочется. Я даже помню, что слышал явственно тихий стук в завешенную дверь, и был уверен, что стук был мне, только мне. Так, может быть, и даже наверно, каждый из нас думал, если только стук действительно был: каждый думал, что женщина настоящего стучится именно к нему.
Но утром ко всем нам пришла та женщина будущего, для торжества которой каждый из нас должен был отказаться от своего настоящего. Не глядя друг на друга, мы подписали акт и сожгли виноградник.
Горбачев, когда я вернулся с Кавказа, решил наконец-то познакомить меня с «Данилычем». В. Д. Ульрих в то время жил на даче в Майеренгофе. Мы с Горбачевым приехали на «штранд» и, направляясь берегом к даче Ульриха, вздумали покупаться в море. Горбачев, отличный пловец, очень скоро уплыл от меня на третью мель, а я никогда не плавал в море и на порядочной глубине набегающие на меня белые гребешки честно хлебал, пока вдруг не почувствовал, что больше не в силах бороться. Последнее мне мелькнуло: далекая лодка на берегу и мысль последняя о рукописи моего перевода. Дальше было так: Горбачев, увидав с третьей мели, что волны свободно меня влекут, как бревно, бросился, вытащил меня без сознания на берег. Я пришел в себя только уже на квартире Ульриха. Таинственный «Данилыч», блондин с бритыми щеками и небольшой бородкой, лысый, с хорошим черепом, был похож на доктора. Он стоял у меня в ногах, смотрел строго и, видимо, всем распоряжался. Около меня же стоял его мальчик, цветущий, весь розовый, с длинными черными ресницами, и держал в руке стакан чая с молоком, разглядывая меня поверх стакана с величайшим любопытством. Жена «Данилыча», высокая, нервная, революционерка русского типа, наливала в чай коньяк.
– Поразительно быстро, – сказал Горбачев, и это были первые слова, которые донесло мне мое ожившее сознанье, – поразительно быстро этот молодой человек от всей чистой науки обернулся в практику жизни.
– Не знаю, чему вы удивляетесь, – ответил Данилыч, – практика является коррективом наших идей.
…И пошло, и пошло…
Но не очень-то долго пришлось нам вместе корректировать практикой жизни чистую науку. Вскоре начинавший тогда свою карьеру охотника за революционерами товарищ прокурора Трусевич, известный потом директор департамента полиции, захватил всех нас в свои сети. Мы сидели с полгода в Риге, потом в Митаве, потом нас расшвыряли по всей стране.
(Из рассказов охотника)
Люблю я собак! Первое – люблю, конечно, охотиться и держу их для охоты, а еще – и это, может быть, даже больше охоты: люблю поговорить с ними, посмеяться, поиграть и, как говорят, «отвести душу»… Но выставлять своих собак я не люблю. Почему? Вот об этом я и расскажу…
Однажды назначили выставку собак, и мне позвонили из охотничьего общества, что выставлять необходимо.
Ну, если так, – делать нечего! Привожу свою Нору. Небольшая собачка эта Нора, величиной с зайца, на коротких ногах, и хвостик обрублен, а уши длинней сеттеровых, и, если голову держит пониже, уши метут пыль на земле. Во время кормления надеваем колечко из старого чулка, и оно подхватывает уши и не дает им валиться в миску. Псовина у Норы сеттеровая, густая, волнистая, черная с белым, ножки в белых чулочках. На охоте у нас она годится только для уток, вытуривает их из тростников, приносит убитых, вылавливает подранков.
Смешна и мила эта собачка своей важностью: идет – от земли не видно, а сеттер – настоящий сеттер! Из человеческих свойств – у нее замечательная память на адреса, и, говорят, в Лондоне эта собачка, спаниэль, водит за собою слепых на веревочке.
Привожу я свою Нору на выставку. За столиком сидит, регистрирует известнейший у нас главный судья охотничьих собак.
– А. А., – говорю, – не хочется мне свою Нору показывать, если можно, зарегистрируйте и отпустите.
– Это почему? – отвечает. – Чумы боитесь? Не бойтесь! У нас на выставке все предусмотрено.
– Не чумы боюсь, а стыдно сказать: чужого глазу боюсь, сглазят.
Он откинулся назад, поглядел на меня, как глядят русские люди, когда догадываются, что собеседник задумал немного подурачиться, и принялся хохотать, приговаривая:
– Ох, уж эти мне охотничьи писатели!
Отсмеявшись, он положил мне руку на плечо и ладонью по шее потрепал, как лошадей треплют: любовно, с улыбкой дружбы. И, указав на мою спаниэльку, сказал:
– Золотая медаль! Я вам ручаюсь: такой другой сучки нет в городе, ей обеспечена золотая медаль. Я это вам как старший судья говорю.
Вот подумайте теперь, как тут совсем отказаться от суеверия? В этих собачьих золотых медалях нет ни малейшей частицы золота, это просто бумажка, на которой только слова. Но довольно было произнести слово «золото», чтобы какой-то яд вошел в меня. Яд вошел в меня в один миг и начал соблазнять меня. Мне вдруг ужасно захотелось получить золотую медаль. Но я знал один тайный порок Норы и сказал:
– Не получит Нора золотую медаль: у нее бульдожинка.
А. А. наклонился к Норе, огладил ее осторожно, умело развел ей губы и потемнел в лице: зубы нижней челюсти у Норы выступали вперед, а верхние зубы заходили за них.
– Бульдожинка явственная, – сказал он.
– Так отпустите же меня, как я вас просил. Зачем мы будем выставлять собаку с бульдожинкой?
Он побыл немного в задумчивости, с темным лицом. Но трудно такому светлому русскому человеку, такому чистому охотнику долго оставаться с темным лицом. Вдруг молния прорезала тьму, и чистое здоровое лицо его, как природа, обновилось после грозы.
– Отчего же не выставлять? – сказал он. – Не я буду сегодня спаниэлей судить, а судьи наши, может быть, и проглядят.
С великим изумлением и смущением я поглядел на него…
Лет тридцать уже я знаю этого человека. Он живет за городом. У него жена – одна на всю жизнь, всегда с ним, несколько замечательных собак, есть гитара и краски. Пишет он исключительно собак и охотничьи сцены. Сбывает картинки в охотничьи магазины. Какая корысть такому совершенно независимому судье кривить душой на собачьих судах? Мало того! Сам я, когда пишу свой охотничий рассказ, виляя между правдой и выдумкой, как в море между волнами, гляжу всегда на А. А., как на маяк. И вот теперь этот-то мой маяк явно ведет меня на скалу.