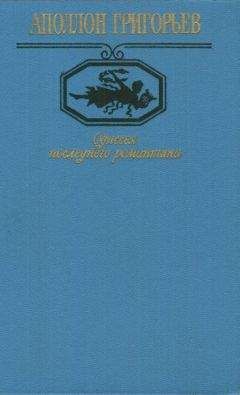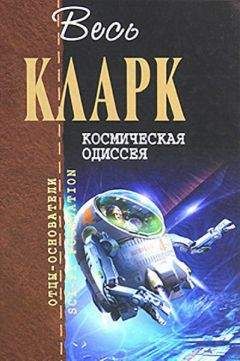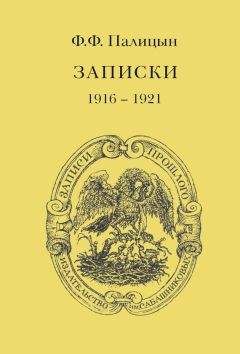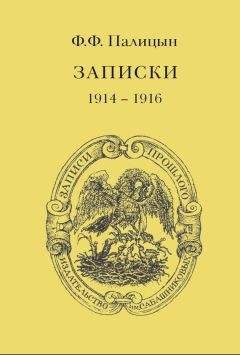Убеждения!.. Да разве, в самом деле, могут быть дороги убеждения для тех, у кого нет убеждений! Разве…
Но лучше остановлюсь. Я человек отсталый, я ненужный человек, я принадлежу к поколению Рудиных, — на личной жизни которых лежит, может быть, много пятен, но которым слово — было святыня, которым убеждение было нечто большее их самих…
Я помню, как раз один из моих собратий рудиных на моих глазах напивался с одним из юных поборников «благодетельной гласности»… Рудин мой был один из самых ярких экземпляров рудиных. На нем тяготело много личных грехов, пожалуй, даже хуже, чем грехов, — неблаговидных по форме поступков: пил он не так, как добрые люди пьют, т. е. не с дилетантизмом, а пил «мертвую», хоть и не запоем, и чем больше пьянел он, тем становился безалабернее: страстные инстинкты его принимали колоссальные размеры, — ходульность доходила до комического; но он явным образом отвлекался от своей личности; он все сильнее и сильнее проникался фанатическою верою в убеждение. Юный поборник гласности, тогда еще рисковавший подчас попасть в долговое отделение, пил так, как пьют весьма многие «поборники гласности», т. е. дилетантски много и дилетантски легко; пил откупную и вчера и сегодня и, можно сказать наверное, пил бы завтра, в ожидании, что послезавтра он, усердно и верно служа «благодетельной гласности», будет в состоянии пить так же легко дорогие иностранные вина. Пьяны они были оба равно, и хоть я вполовину верю известной поговорке: «что у трезвого на уме, то у пьяного на языке», ибо движения душевные поднимаются в этом состоянии до крайней точки своего логического развития, но все-таки основы этих движений действительно в душе существуют. Стало быть, я принял к сведению то, что поразило меня в их беседе. «Юбезный, юбезный, — говорил несколько шепелявивший поборник юной гласности, — посьюшай: неужли ты в твои года сурьезно веришь в убеждение?» Так меня, я тебе скажу, — громом и зашибло. Что ж? Ведь на моих глазах преуспел «служитель благодетельной гласности», — капиталистом стал, силой стал… Вот я так только к примеру припомнил, милейшая моя редакция, одного из юных поборников юной гласности. Он на моих глазах процвел «яко жезл Ааронов», — и доселе он, вероятно, благополучнейше процветает, когда последний из рудиных, я думаю, давно уж кончил свою земную Одиссею в далеком краю, куда занесла его служба государская — «да хмелинушка кабацкая»… Вспомнил я о том и о другом потому, что к слову пришлось. А между тем судьба того и другого… весьма поучительная, и в особенности судьба юного поборника юной гласности.
Я помню его еще юным, еще весьма юным. То было в те времена, когда о «благодетельной гласности» еще и в помине не было, и малейшее упущение по части петлиц и погончиков стояло в уровень с самыми криминальными деяниями, — незаконное же произрастание волос на непоказанных местах, как-то пониже уст и над устами, преследовалось наистрожайше потому, что «волос ведь глуп: он где и не следует растет». Юный тогда еще поборник гласности — хоть и готов был писать стихи, даже на именины своих непосредственных начальников, и мог бы при малом поощрении осуществить в действительности певца мандаринов, этот роскошный сон нового поэта, но по части погончиков и петличек весьма либеральничал, думая по младости лет и по неопытности, что это ничего, не повлечет никаких серьезных последствий… Последствия были, однако, очень серьезны: его исключили из службы. Увы! виновники исключения не знали, какой столб отечества могли они приобрести, снисходя несколько к невинным поползновениям юношеского вольномыслия…
Великий нравственный переворот совершился тогда в натуре моего героя. Мысли его, до того колебавшиеся, приняли решительное направление. Певец мандаринов, который мог бы развиться в нем при малейшем поощрении, — погиб в нем, увы! навсегда, тем более что вскоре после этого и воздух переменился.
Он был один из первых, справивших день рождения благодетельной гласности. Он яростно славил ее — славил даже более, чем В. А. Кокорев{362}. Après tout[120], едва ли мандарины в нем что-либо и потеряли. Он изменил бы им, забыл бы даже все поощрения, надул бы их в это время, как натура, весьма чувствительная к перемене воздуха…
О, как он начал петь тогда! Соловей в пору своей любви — сравнение слишком обветшалое, да и не выражающее значения песен моего юного друга… Он каркал вороною, ржал жеребчиком и истым вороном накидывался на всякую падаль. Он готов был пародировать, пожалуй, хоть «для берегов отчизны дальней»{363}, опоганить самый горький из горьких стонов Лермонтова, опошлить самое религиозное из стихотворений Тютчева. К этой-то лирической эпохе относилась рассказанная мною пьяная беседа с последним из рудиных.
Как теперь помню я его, «юного поборника юной гласности», — светозарного, торжествующего, считающего умственно барыши от всякого обнаруженного им скандала, от всякой, публично им данной или — что относительно барышей совершенно все равно — публично полученной им печатной оплеухи. В восторге самозабвения и в «жабвении чувств» Устиньки («Праздничный сон до обеда») — он пугал гласностию трактирщиков за мало-мальски преувеличенный счет, а тем паче за плохие вина. Соединя «приятное с полезным», он умом и чувством понимал, что выгодно в настоящую минуту «постоять за народ», и принял под свое покровительство, под покровительство «благодетельной гласности» — нахальство лихачей-извозчиков Невского проспекта… С азартом накидывался он на все, на что было возможно выгодно накинуться… Редко изменял ему в этом случае такт и совершенно уже перестал ему изменять с тех пор, как, неловко набросившись на покойного Добролюбова, — он съел зубы. Это был его единственный неосторожный поступок. Затем он сделался «пай-дитя» гласности. Он облаивал, как все, Сорокина, он даже пожертвовал своею прежнею симпатиею к Штукареву{364} и хватил его раза два вскользь в своих статейках… чем и умыл, как Пилат, руки перед публикой… Какою возвышенною ненавистью преисполнился он к обскурантизму, — как подымал он из-под спуда разные сведения о частной жизни и поведении г. Аскоченского, как ярился он по поводу похорон Ивана Яковлевича… Да, он был ревностный, рьяный поборник прогресса, замечательный орган гласности. Я находил всегда нечто трогательное в его самоотвержении, ибо я действительно видел в нем самоотвержение баядеры. Он и был баядера, только петербургская, а не индийская. В сущности, он не порешил для себя вопроса о том, где свет и где тьма, где просвещение и где обскурантизм, не поручусь даже и за то, что, ярясь против «Домашней беседы» и памяти Ивана Яковлевича, он временами не открещивался от бесов под одеялом. Он фанатически служил неведомому божеству, но только выбрал это божество вовсе не фанатически. Во времена процветания «субботних фельетонов» Ф. Б.{365}— он, может быть, с равным усердием служил бы в духе, этих фельетонов.
Ну не подлец ли я выхожу, однако, даже и в твоих глазах, моя современная редакция? Нужды нет, что ты не баядера с Гороховой улицы, нужды нет, что ты сама знаешь, что есть такие литературные баядеры, как мною описанная, — все-таки я подлость делаю, я не вовремя компрометирую честное и великое дело протеста и гласности.
Не вовремя! не могу я, старый, ненужный человек, слышать равнодушно этого любимого слова доктринеров: не вовремя!.. Я верю в старого Шекспира, верю, что
Время
Всегда на то, что происходит в нем.{366}
Это во-первых, а во-вторых…
Ну представь ты себе, что перед этакой баядерой проходит явление хоть в виде славянофильства. Что она поймет в этом чуждом ей явлении? Оно для нее сольется с «Домашнею беседою», она облает бессмысленно и возвышенное направление, и людей, из которых один в день смерти и болезненных страданий, юноша-старец{367}, чертит слабою рукою гимн привета возрождению народа, а другой, также в день смерти, занят логическим развитием заветных философских идей{368}; людей, которые в те дни, когда мы распевали песню о воеводе Пальмерстоне… (я, право, иногда думал, не моя ли баядера сочинила эту песню{369}), обращались к родной земле со словами честного и правдивого укора, как Хомяков в известном ныне уже и в печати превосходном стихотворении{370}…
Жаль, что воззрение, свойственное описанной мною в точности баядере, выразилось в «Искре». Жаль потому, что «Искра» бывала нередко полезным органом необходимой гласности! А от чего впадает «Искра» в подобные промахи? Все от несчастного служения «почтенной» публике.
Да! народу надо служить, а не публике, — и честно следует обращаться с словом. Публике служит, служила и будет служить только литературная тля.