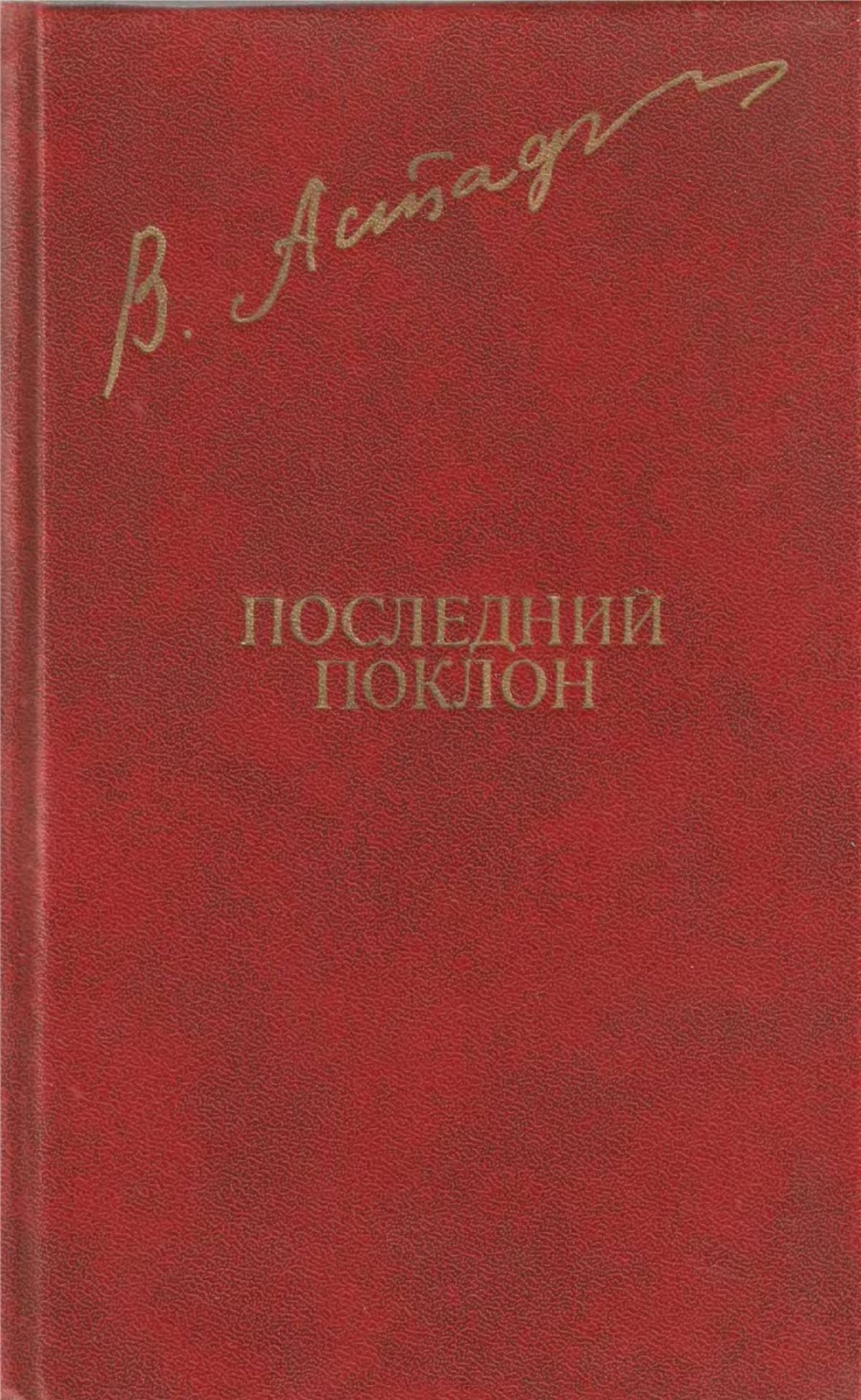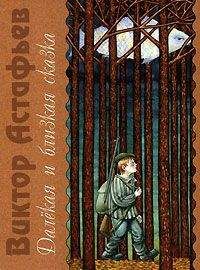и врачуй!..
— Да тошно мне, тошнехонько! — толсто обматывая тряпицей палец громко басившему орлу, завывала тетка Васеня, озираясь на печку, на разваленную по полу и по столу посуду, на черные ноги в недопаленной шерсти, одну из которых уже уволокли со стола, обрезали подгорелые шматки и, валяя во рту, поедали помощники, которые посмекалистей. Не закончив перевязки, Васеня всплеснула руками, бросилась к парням, они от нее наутек, едва настигла и, отняв ногу, замахнулась ею, как булавой, но опомнилась — зашибет! — и от бессилия, от сознания, что ей опять не справиться с задачей, не соблюсти порядок, не изготовиться к празднику, как хотелось и мечталось, она упала на лавку, отрешилась от всякого дела, мол, как хотите, хоть пропадите все, и намаливала себе смерти — единственно мыслимого избавления от семейных напастей.
Но умереть ей не было времени. Порезанный боец тянул к ней раненую руку, и тетка Васеня доводила перевязку до конца и, заключая лечение, отвешивала еще одну оплеуху болящему и бросалась к печи, стараясь наверстать упущенное время, снова суетилась по избе, опрокидывала чугуны, роняла ухваты и орала, орала, орала, да так, под собственный ор и всеобщий погром управлялась с делом и недоверчиво, потерянно озиралась вокруг, ровно и не веря самой себе, что все дела на сегодня окончены.
Ночью, забивая дремучие, густо сплетенные запахи многодетного жилища, по избе расплывался дух прелого мяса, подгорелой шерсти и мреющих костей.
Заслышав крик бабушкиного красного петуха, зевая и неумело, как бы понарошке, крестясь, стараясь не греметь заслонкой, тетка Васеня ухватом выдвигала на шесток объемистые чугуны, плотно закрытые сковородами, ладясь в безлюдном покое справить бабью работу, обобрать мясо с костей, изрубить его с луком, с чесноком, вывалить в корыто и поверху осторожно залить крошево жирной, запашистой жижей да и выставить на остужение, чтобы потом, когда захрястнет студень — отрад души, накормить им семейство, угостить соседушку, Катерину Петрову, деда Илью и чтобы они ее похвалили за труд и ловкие руки.
Но любящие вытягиваться до обеда, отыскивающие в себе недуги и всякие причины, только чтоб не полоть огород, не пилить дрова, чтоб отлынить от всякого дела, пролетарьи дяди Левонтия не проспали ни одного утра, в которое мать собиралась творить таинство в кути. Когда наступала пора опрастывать чугуны, по обе стороны стола выстраивались в две шеренги, почесываясь и зевая, поталкивая друг дружку, орлы ждали свой миг. И как только мать вываливала сваренные кости в корыто, почти на лету выхватывали кто чего успевал, имея целью добыть бабку. Варево так горячо и жирно, что даже не парило. Любой и каждый обварился бы, ожог получил, но обитателей этого дома ни пламя, ни вода не брали. Они обхватывали горячую кость губами, с треском отдирали с нее зубами хрящи, и кому попадалась бабка, да еще панок, тот издавал вопль:
— Чур, мой! Чур, мой! Паночек! Паночек! Крепкий пенечек! — и пускался в пляс: — Бабки-бубны, люди умны…
И что интересно: чаще всего бабки подваливали не тем, кто больше всего зарился на них, не парням, а девкам. Особенно везло Таньке. Она принималась дразнить братьев бабкою или торговаться с ними. Дело заканчивалось свалкой. Надеясь сохранить хоть остатки варева, тетка Васеня наваливалась на корыто, охватывала его, загораживала собою и, поскольку третьей руки у нее не было, чтоб обороняться и давать оплеухи, вопила:
— Матушка, заступница пресвятая! Помилуй и сохрани! Растащут, злодеи! Расхлещут!..
На всех сердитая, удрученная, приносила потом тетка Васеня корыто и, не желая даже пачкать чашки кисельно колеблющейся жижей, протестующе швыркая носом, стукала посудиной о стол: «Жрите!»
Никто не выражал никакого недовольства и досады. Семейство во главе о дядей Левонтием бралось за ложки, отламывало по куску хлеба и вперебой возило жижу, которая в ложках не держалась, высклизала, шлепалась на стол, и тогда едок нагибался, со смачным чмоком втягивал губами вкуснятину, крякал от удовольствия и продолжал дружную работу. Лишь долгоязыкая, шустро насытившаяся Танька пускалась в праздные рассуждения:
— Баушка Катерина на святой неделе меня шаньгой, калачом и штуднем угошшала, дак у ей штудень хушь ножом решь…
— А кто хватат?! Кто хватат?! — взвивалась тетка Васеня, выскакивая из кути. — Витька хватат? Дед Илья хватат? — и, подвывая, высказывалась — Мине бы условья создать, дак рази б я не сумела сготовить по-человечески-и-и.
Рубанув ложкой по лбу шебуршливую дочь, дядя Левонтий, пропивший половину получки и дождавшийся момента, чтобы выслужиться перед женой, говорил с солидным хозяйским достоинством:
— Ну вот, сыт покуда, съел полпуда. Студень как студень. Очень даже питательный, — и подмигивал: — Правду я говорю, матросы?
— Ску-у-уснай!
— Сталыть, порядок на корабле! Иди, мать, и кушай! Рот болит, а брюхо ись велит… Тут ишшо на дне осталось, поскреби…
И тетка Васеня — слабая душа, утирая фартуком глаза и нос, прилеплялась бочком к столу. Ей подсовывали ложку, хлеб, будто чужой, и она, тоже словно чужая, вежливо поцарапывала в корыте, щипала хлебца, но уже через минуту-другую снова брала руль над командой и первым делом выдворяла из-за стола Саньку, который, нахватавшись студня, «бродил» ложкой в корыте, и тут же Васеня прыскала, узрев набухающую шишку на лбу дочери:
— Это тебе бласловленье к паске!
— Премия за долгий язык! — благодушно поправлял супругу дядя Левонтий.
Семейство прокатывалось об Танькиной шишке, и она, показав язык, убегала на улицу, а совсем уж отмякшая мать дразнила парнишек:
— Я ишшо три бабочки заудила в чигунке! Две рюшечки да паночка! И кто мать будет слушаться, тот бабочки получит…
Парни единодушно сулились слушаться мать до скончания дней своих, таскались за нею по пятам, ныли:
— Мам, я дрова принес и ишшо сор от крыльца отгребал. Мине отдай!..
— Мам, ему не отдавай! Это я отгребал, он токо баловался.
— Мам, я те ишшо картошек в подполье нагребу. Мам, я по воду схожу? На… Анисей аж.
— Мам!.. Мам!.. Мам!..
Дело кончалось тем, что тетка Васеня, плюнув, вытряхивала из фартука бабки:
— Громом вас разрази!
Снова начиналась свалка. Бабками, как водится, овладевал Санька, который ни в каком труде не участвовал, перед матерью не финтил, но умел улавливать свой миг. Но в общем и целом вся праздничная маета заканчивалась полным успокоением, и дом наших соседей, набитый до отказа народом, будто пароход пассажирами, клубя дым трубой, с воем, шумом, криками пер без остановок дальше,^?. будущее, и капитан — дядя Левонтий, хозяйски озревая родную «команду», горделиво отмечал: «На корабле полный порядок!».
Вразвалку, со жвачкой во рту, Санька являлся ко мне и встряхивал брюхом — под