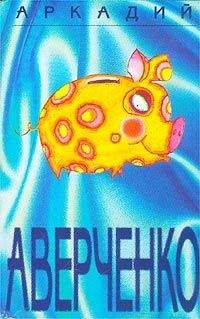Ну, поссорились и поссорились. Жаль, но мало ли кто ссорится. Во всяком случае, они и порознь настолько милы, что я могу продолжать свою дружбу с каждой отдельно.
* * *
А как, спрашивается, наилучше продолжать с женщиной дружбу?
Очень просто: ругать ее врага.
Немного это, как будто, нечестно, но отчего не сделать хорошему человеку приятное. Я добрый.
Был у Софьи Григорьевны на обеде. Встретила она меня так радостно, что я был тронут.
Усадила в кресло, и первый вопрос ее был:
— Встречаете ли Матильду Леонидовну?
— Вы спрашиваете об этой розовой невыпеченной булке? Нет, признаться, я этой размазни не видел два дня.
На лице Софьи Григорьевны мелькнуло выражение ужаса:
— Вы с ней поссорились?!
— Нет, — слегка удивился я. — Это вы с ней поссорились.
— А вы, значит, по-прежнему в хороших отношениях?
— Д… ддда… А что?
— И вам не стыдно так отзываться о бедной Тилли?! Вот, говорят, женщины злоязычны. Куда нам до вас! Обождите, — Тилли сейчас приедет, я ей расскажу, как вы…
— Куда приедет?!
— На обед. Ко мне. Чего это вы так всполохнулись?
— А ваша… взаимная… ненависть?!
— Ну, вы тоже скажете — ненависть! Тилли, в сущности, очень хороший человек, только вспыльчива свыше меры. Порох! Да вот и она…
Они стояли передо мной ласково, любовно обнявшись: головка блондинки тихо покоилась на плече брюнетки, а рука брюнетки нежно обняла полную талию блондинки.
— Ах, господа! — радостно говорил я. — Сегодня для меня Пасха. Я так рад!.. Давно бы так, мои милые чудесные девушки. Если бы я был другого пола, — я расцеловал бы вас обеих прямо в мордочки.
Обе лучезарно засмеялись.
— Черт с вами, целуйте.
Сколько было в этой грубой фразе мило-интимного, вечно женственного.
На картинной выставке встретился с Софьей Григорьевной.
— Здравствуйте, Софья, что по-гречески значит Мудрость! Целую вечность не виделись. Я, чай, дня три не целовал вашего носика.
— Полно врать. Вы его раньше не целовали.
— Все равно — хотел.
Она поглядела в сторону и спросила:
— Матильду Леонидовну встречаете?
— Вчера. Вскользь. Просила передать вам тысячу приветов.
— Она мне передала привет?! — странным дрогнувшим голосом спросила Софья Григорьевна.
— М… да, — не совсем уверенно подтвердил я. Сказал я о привете на всякий случай. Виделись мы с Матильдой буквально на лету, и я даже не расслышал, что она мне крикнула с экипажа.
— Да, она… Этого. Кланялась вам.
— Ну, это уж, знаете, наглость, — закипела вдруг Софья Григорьевна. — После того, что она позволила в отношении меня, — передавать поклоны — это я считаю форменным издевательством!!!
— Поссорились?! — простонал я.
— Ах, вы и не знаете. Только нынче на свет родились?! Весь город возмущен ее подлым поступком со мной на аукционе… Неужели вы ее еще не раскусили?!
— Да, — вяло поддержал я. — Она, действительно, тяжелый человек. В ней есть что-то, как бы это сказать: змеиное!
— Ага, и вы заметили?!
— Да, да, — уныло пополз я дальше. — У нее темперамент заменяется всегда резким, рвущим барабанные перепонки визгом. Визжит, визжит, а что толку?
* * *
Заехал к Матильде Леонидовне выпить стакан чаю и для укрепления дружбы ругнуть Софью Григорьевну. Это, по моему мнению, должно было очень освежить застоявшуюся атмосферу.
Еще в передней радостно закричал:
— Здравствуйте, цветочек! Все хорошеете? А я недавно видел эту выдру, Соньку… Боже, как она подурнела! Черная, страшная.
— По-вашему, она выдра?! — звонко расхохоталась Матильда Леонидовна. — А вот мы ее сейчас сами спросим… Сонечка! Разве ты похожа на выдру? Давай булавку, мы ему сейчас язык наколем… Ей-Богу, он нахал. Тебя называет выдрой, меня — змеей, у которой темперамент заменяется визгом, рвущим барабанные перепонки. Хорош!!
Вышедшая из другой комнаты «Сонечка» обвила рукой талию хозяйки, а та положила ей золотистую головку на плечо, и они слились в такую прелестную женственную группу, что всякий другой на моем месте пришел бы в восторг.
Я опустился бессильно в кресло и тихо сказал:
— Сколько в вас женственности… Вы так напиханы этой женственностью, что она лезет у вас из глаз, изо рта, из ушей… Поменьше бы женственности, а? Хорошо бы было, роскошно было бы! Но если уж вы настолько женственны, то оставьте хоть меня в покое, или устройте меня так, чтобы я был вне всего этого… Поймите, что я настолько неповоротлив, что не могу угнаться за всеми вашими прихотливыми изгибами, поворотами и бросаниями из одной крайности в другую. Я прошу, я, наконец, требую, чтобы периоды ссор отмечались какими-нибудь внешними признаками: ленточку черную на шею себе нацепляйте или флаг на крыше вашего дома выбрасывайте, чтобы я мог безошибочно руководствоваться. Нельзя же так — поймите вы меня!!!
Они стояли передо мной, сияющие молодостью, красотой и женственностью, любовно прильнув друг к другу, и смотрели на меня с любопытством и удивлением.
— Какой смешной! — сказала белокурая.
— Да… Неужели он думает, — подхватила черная, — что мы теперь еще когда-нибудь поссоримся?!
— За то, что вы такой нехороший, достаньте нам два билета на «Дон-Кихота».
— Слушаю-с! Прикажете рядом или в разных сторонах?
— Почему в разных? Вот глупый!
— Ничего не глупый. Не забывайте, что спектакль еще через четыре дня…
Начался вечер очень мило: я сидел у Веры Николаевны и оживленно беседовал с ней о литературе, о любви, о морях-океанах, о преимуществе жареных пирожков над печеными, об искусстве смешивать духи, о нахалах, пристающих на улицах, и о полной допустимости загробной жизни.
Звонок в передней прервал мое заявление о том, что паюсную икру, размятую с сардинами и соком лимона, — никак нельзя приправлять сливочным маслом.
— Гм… Звонок… Это, вероятно, моя школьная подруга. Я ее не видела двенадцать лет.
«Чтоб ее черт унес», — подумал я. Вслух продолжал:
— Я знал даже людей, которые присыпали ее зеленым луком и петрушкой.
— Подругу? — удивилась хозяйка.
— Икру!..
— Какую? — рассеянно переспросила хозяйка, прислушиваясь.
— Паюсную!..
Я ревниво отметил, что внимание ее было уже не около меня, а в передней, откуда доносился стук сбрасываемых ботиков и шелест снимаемых одежд.
— Ну да, это она! — просияла хозяйка. — Боже ты мой… двенадцать лет! Ведь мы расстались совсем девчонками! С седьмого класса…
Сначала в комнату влетело что-то темно-коричневое, потом ему навстречу шумно двинулось зеленовато-голубое, потом эти два кружащихся смерча соединились, сплелись воедино и образовали один бурный, бешено вращающийся на своей оси смерч, в котором ничего нельзя было разобрать, кроме мелькающих рук, писка и чмоканья… Жуткое зрелище!..
В отношении поцелуев разгон был такой, что инерция еще долго не могла прекратиться. Но на третьей минуте подруга засбоила, то, что называется у коннозаводчиков «сошла с круга», и отстала в одном темпе: именно, хозяйка чмокала ее в то самое время, когда щеки подруги отрывались от хозяйкиных губ; чтобы вознаградить хозяйку за этот холостой поцелуй в воздух, подруга ретиво возвращала лобзанье, но в этот момент хозяйкина щека, в свою очередь, уже отрывалась от подругиных губ, и снова поцелуи, как петарды, безвредно разряжались в воздухе.
Наконец смерч распался на свои основные цвета — темно-коричневый и зеленовато-голубой, подруги отдышались, фыркнули, точно запаренные лошади, отчетливо, как по команде, вынули из сумочек какие-то красные палочки, намазали губы, попудрили носы, еще раз обменялись радостными взглядами, и только тогда их внимание обратилось на меня, скромного, забытого, оглушенного, ослепленного шумом и треском.
— Позволь тебе представить, Нюра, мой большой друг.
Подруга бросила на меня рассеянный взгляд и швырнула в мою сторону, как собаке кость:
— Очень приятно.
— Я думаю! — самодовольно хихикнул я, радуясь уже тому, что они обратили на меня внимание.
— Что вы сказали?!
— Я говорю, что Вера Николаевна много мне о вас говорила.
Соврал. Для того и соврал, чтобы они обратили на меня хоть какое-нибудь внимание.
Но нет ничего ужаснее зрелища двух встретившихся после долгой разлуки подруг. От созерцания такой пары холодеет кровь и свертывается мозг у самого стойкого человека.
Они уселись на диван по обе стороны от меня, и с этого момента я превратился в ничтожество, в диванную подушку, через которую можно переговариваться, совершенно ее не замечая.
Глаза их восторженно вперились в лица друг друга, а руки сплелись через меня и невозмутимо покоились на моих кротких коленях.