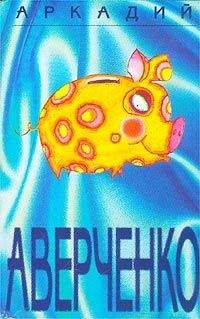У меня даже мелькнула неопределенная бесформенная мысль: побежать в участок и заявить обо всем околоточному.
— Довольно! — сурово крикнул я. — Все это глупости. Мы сейчас это прекратим.
Я подскочил к письменному столу, выдвинул ящик, схватил какую-то бутылочку с аптекарским ярлыком и через открытое окно вышвырнул ее на каменные плиты двора.
— Что вы делаете? — испуганно вскрикнула она, но сейчас же успокоилась:
— Ребенок! Неужели вы думаете, что дело в этой бутылочке? Через десять минут у меня будет другая, — аптека ведь здесь в десяти шагах.
— Я пойду в аптеку и сделаю заявление, чтобы вам ничего не отпускали.
— Всех аптек не обойдете… Да и, кроме того, у меня в надежном месте припрятан револьвер на самый крайний случай… А веревка? Неужели вы будете сейчас сдирать все шнурки от портьер…
— Зачем вы меня мучаете, — закричал я. — Зачем вы меня позвали?!
— В последний же раз! Неужели вам так трудно пожертвовать одним-единственным часочком? Подумайте: ведь всю вашу остальную жизнь никогда, никогда я не отниму больше у вас времени.
Мы замолчали. Она сидела в кресле, подперев ладонью щеку, я метался по комнате…
— Я не допущу этого!! Я не уйду отсюда. Я не могу допустить, чтобы человек погибал у меня на глазах…
— Ах, — возразила она, — не сегодня, так завтра. Днем раньше, днем позже — это не имеет никакого значения.
«Уйти, что ли? — подумал я. — Кстати, старик бухгалтер, вероятно, уже рвет и мечет, ожидая меня. Ему нет ведь дела до таких вещей. Вместо часа прошло уже полтора… Гм! Может быть, попросить ее обождать до вечера… Глупо как-то».
— Послушайте, — нерешительно сказал я. — Подождите меня до вечера — я хочу поговорить с вами. Ради Бога! Ладно?
Она печально улыбнулась.
— Вам скучно со мной?
Я хотел сказать, что дело не в скуке, а просто истекает срок моего отпуска, и бухгалтер меня заест за то, что я запоздаю со списком дебиторов.
Но тут же я устыдился — около меня умирающий, расстающийся с прекрасной жизнью человек, а я лезу с каким-то списком дебиторов. Как это все мелко и неважно.
«Вам все неважно, — зазвучал у меня в ушах скрипучий голос бухгалтера. — По списку дебиторов нужно сделать к 15-му распределение платежей, а вы, проклятый лентяй, и ухом не ведете».
— Ну, слушайте, — ласково и задушевно сказал я, беря Полину за руку. — Ведь вы этого не сделаете, да? Ну, успокойте меня… В жизни еще может быть столько хороших минут… Обещайте, что мы вечером увидимся!
Она вяло покачала головой:
— К чему? Лучше теперь же покончить — и ладно! «Проклятая баба, — подумал я. — Вот-то послал мне
Господь удовольствие».
Жалость легко и без боя уступила в сердце моем место злости и ненависти к этой женщине.
Сердце сделалось жесткое, как камень.
«Не понимаю я этих людей, — думал я. — Хочешь отравиться — сделай это без грома и шума, без оповещений и освещений бенгальским огнем. Нет, ей обязательно нужно поломаться перед этим, оповестить друзей и знакомых… Она бы еще золотообрезные карточки разослала: „Полина Владимировна Черкесова просит друзей и знакомых на soiree по случаю предстоящего самоубийства через отравление…“»
Она сидела в прежней позе, задумчиво опершись на руку и глядя в стену.
«Уйти, — гудело у меня в мозгу. — Но как уйти?» Обыкновенно это не представляет никаких затруднений. Сидишь, сидишь, потом зашевелишься, озабоченно взглянешь на часы и скажешь, вставая: «Ну, я пошел…» или «Ну, поползем, что ли…»
— Куда ж вы, — говорит хозяин. — Посидите еще.
— Нет, надо. Я и так уж засиделся. Завтра, надеюсь, увидимся в клубе или в театре… Да?..
И расстаешься довольный, смягчивший неловкость разлуки перспективой завтрашнего свидания. Я вздохнул и подошел к Полине.
— Ну? Обещаете меня ждать вечером? Даете честное слово?
— Честное слово надо сдержать, — пожала плечами хозяйка. — А я боюсь дать его. К чему эти отсрочки? Отговорить меня не может никто в мире. Позвольте… вы, может быть, спешите по делам? Так идите. Простимся — и я освобожу вас.
«Простимся, — екнуло сердце. — Нет, я никогда не был убийцей! Я не могу ее оставить одну».
«Еще бы, — прошипел отравленный злостью голос бухгалтера. — Список дебиторов, значит, может подождать? Директор его будет делать? Или, может быть, швейцар? Если вам так трудно и тяжело служить, — зачем себя насиловать. Гораздо честнее уйти и не вредить делу».
Две, три, четыре минуты протекли в нудном, тянущем за душу молчании…
Ах, надо же что-нибудь сказать, чтобы отвлечь эту сумасшедшую!
— Прягина давно видели? — спросил я.
— Что? Прягина? Давно. Он, кажется, уехал.
— Говорят, что у него с женой что-то неладно. Опять он у этой немки стал бывать каждый день.
— Что же, с ней и уехал? Или один? Я ответил с излишней готовностью:
— Не знаю, но могу узнать. Хотите завтра узнаю и сообщу вам. Ладно?
— Нет, зачем же. Мне это не нужно. И потом завтра! (Она иронически улыбнулась.) Вы, кажется, все думаете, что я шутила все это время?
— Ах, не говорите мне об этом!!
Я обвел комнату тоскливым взором и обратил внимание на пятно сырости, проступившее в углу стены, на обоях. Сказать ей об этом, посоветовать переменить квартиру? Она, конечно, улыбнется своей проклятой улыбкой и скажет: «К чему?»
Стенные часы пробили половину третьего.
Это была жестокая мысль, но она пришла мне в голову:
«Тебе-то хорошо: решила отравиться и спокойна! Сидишь… Никуда тебе не надо спешить и никто тебе ничего не скажет, не поднимет скандала… А я все-таки с головой сижу в этой проклятой жизни, и завтра мне будет за сегодняшнюю неявку такая головомойка, что подумать страшно!»
— Ну, не будьте таким скучным, — ласково сказала будущая самоубийца. — Хотите чаю? Самовар стоит горячий.
— Ах, до чаю ли мне! — нервно закричал я.
— Почему? Чай все-таки хорошая вещь.
Она пошла в другую комнату и вернулась с двумя стаканами чаю.
В голову мне лезли только жестокие, чисто механические мысли:
«Сама травиться хочет, умирать собралась, а сама чай пьет. А на службу я уже так опоздал, что и являться не стоит! Я-то вот опоздаю — попаду в историю, а ты, может быть, и не отравишься совсем. Да и странно это как-то. Самоубийство такая интимная вещь, что приглашать в это время гостя и заниматься чаепитием, по меньшей мере, глупо и бестактно! И, кроме того, нужно было бы иметь элементарную догадливость и такт… Раз я прошу отложить до вечера, могла бы пообещать мне это, — чтобы я ушел успокоенный, с чистой совестью. А там можешь и не держать своего слова — твое дело. Но нельзя же меня, черт возьми, меня ставить в такое положение, что уйти невозможно, а сидеть бесполезно».
— Полина Владимировна! — тихо и проникновенно сказал я. — Вы жестоки. Подумали ли вы, кроме себя, и обо мне. В какое ставите вы меня положение… Чего вы от меня ожидали? Неужели думали, что я, услышав о вашем решении, хладнокровно кивну головой и скажу: «Ах, так. Ну, что ж делать… Раз решено — так тому и быть. Травитесь, а мне спешить на службу нужно, меня бухгалтер ждет». Поцелую вашу ручку, расшаркаюсь и уеду, оставив вас наливающей себе в стакан какого-нибудь смертельного зелья. Не могу же я этого сделать!
— Ради Бога, простите! Я знаю, что это вас нервирует, но неужели мое последнее, предсмертное желание — увидеть дружеское лицо — так тяжело для вас? На вашей совести ведь ничего не будет, раз я уже решила сделать это. Вот взглянула на вас, поговорила — и теперь вы можете спокойно уехать, удовлетворенный тем, что скрасили своему ближнему последние минуты.
«Вот дерево-то», — с бешеной злобой подумал я.
Она опустила голову и сняла с юбки приставшую к ней пылинку; потом разостлала на колене носовой платок и стала заботливо и тщательно его разглаживать.
«Зачем разглаживать платок, зачем чистить платье, если думаешь умирать?! Что за суетность…»
«Надо уходить!» — внутренне решил я.
Но никакая «формула перехода к очередным делам» не приходила мне в голову. «Ну-с, я пошел»? — пусто и не соответствует моменту. «Ну-с, прощайте, царство вам небесное»?.. Это логически самое здравое, но кто ж так говорит?
Я выбрал среднее.
— Ну-с, — сказал я, поднимаясь. — Я ухожу, и ухожу в твердой уверенности, что вы одумаетесь и бросите эту мысль. До свидания.
— Прощайте! — сказала она не менее значительно.
— Постойте, я вам дам что-нибудь на память обо мне. Вот, разве кольцо. Оно вам на мизинец будет впору. Все-таки изредка вспомните…
Я швырнул кольцо на пол, схватился за голову и выскочил из передней с тяжелым стоном:
— Не могу! Пропадайте вы, провалитесь с вашими глупостями, с вашими кольцами — я больше не могу. Я измучился!
Выбежав на улицу, я зашагал медленнее.