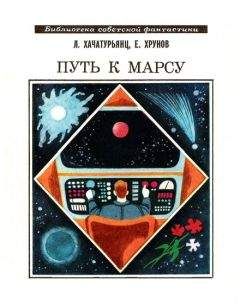— Да разве у тебя осталась деревня?
— Там что-то такое осталось. Две души с половиною. Угол есть, где умереть. Ты, может быть, думаешь в эту минуту: «И тут не обошелся без фразы!» Фраза, точно, меня сгубила, она заела меня, я до конца не мог от нее отделаться. Но то, что я сказал, не фраза. Не фраза, брат, эти белые волосы, эти морщины; эти прорванные локти — не фраза. Ты всегда был строг ко мне, и ты был справедлив; но не до строгости теперь, когда уже всё кончено, и масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль… Смерть, брат, должна примирить наконец…
Лежнев вскочил.
— Рудин! — воскликнул он, — зачем ты мне это говоришь? Чем я заслужил это от тебя? Что я за судья такой, и что бы я был за человек, если б, при виде твоих впалых щек и морщин, слово: фраза — могло прийти в голову? Ты хочешь знать, что я думаю о тебе? Изволь! Я думаю: вот человек… с его способностями, чего бы не мог он достигнуть, какими земными выгодами не обладал бы теперь, если б захотел!.. а я его встречаю голодным, без пристанища…
— Я возбуждаю твое сожаление, — промолвил глухо Рудин.
— Нет, ты ошибаешься. Ты уважение мне внушаешь — вот что. Кто тебе мешал проводить годы за годами у этого помещика, твоего приятеля, который, я вполне уверен, если б ты только захотел под него подлаживаться, упрочил бы твое состояние? Отчего ты не мог ужиться в гимназии, отчего ты — странный человек! — с какими бы помыслами ни начинал дело, всякий раз непременно кончал его тем, что жертвовал своими личными выгодами, не пускал корней в недобрую почву, как она жирна ни была?
— Я родился перекати-полем, — продолжал Рудин с унылой усмешкой. — Я не могу остановиться.
— Это правда; но ты не можешь остановиться не оттого, что в тебе червь живет, как ты сказал мне сначала… Не червь в тебе живет, не дух праздного беспокойства: огонь любви к истине в тебе горит, и, видно, несмотря на все твои дрязги, он горит в тебе сильнее, чем во многих, которые даже не считают себя эгоистами, а тебя, пожалуй, называют интриганом. Да я первый на твоем месте давно бы заставил замолчать в себе этого червя и примирился бы со всем; а в тебе даже желчи не прибавилось, и ты, я уверен, сегодня же, сейчас, готов опять приняться за новую работу, как юноша.
— Нет, брат, я теперь устал, — проговорил Рудин. — С меня довольно.
— Устал! Другой бы умер давно. Ты говоришь, смерть примиряет, а жизнь, ты думаешь, не примиряет? Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Ты сделал что мог, боролся пока мог… Чего же больше? Наши дороги разошлись…
— Ты, брат, совсем другой человек, нежели я, — перебил Рудин со вздохом.
— Наши дороги разошлись, — продолжал Лежнев, — может быть, именно оттого, что, благодаря моему состоянию, холодной крови да другим счастливым обстоятельствам, ничто мне не мешало сидеть сиднем да оставаться зрителем, сложив руки, а ты должен был выйти на поле, засучить рукава, трудиться, работать. Наши дороги разошлись… но посмотри, как мы близки друг другу. Ведь мы говорим с тобой почти одним языком, с полунамека понимаем друг друга, на одних чувствах выросли. Ведь уж мало нас остается, брат; ведь мы с тобой последние могикане! Мы могли расходиться, даже враждовать в старые годы, когда еще много жизни оставалось впереди; но теперь, когда толпа редеет вокруг нас, когда новые поколения идут мимо нас, к не нашим целям, нам надобно крепко держаться друг за друга. Чокнемся, брат, и давай-ка по-старинному: Gaudeamus igitur!*[62]
Приятели чокнулись стаканами и пропели растроганными и фальшивыми прямо русскими голосами старинную студенческую песню.
— Вот ты теперь в деревню едешь, — заговорил опять Лежнев. — Не думаю, чтоб ты долго в ней остался, и не могу себе представить, чем, где и как ты кончишь… Но помни: что бы с тобой ни случилось, у тебя всегда есть место, есть гнездо, куда ты можешь укрыться. Это мой дом… слышишь, старина? У мысли тоже есть свои инвалиды: надобно, чтоб и у них был приют.
Рудин встал.
— Спасибо тебе, брат, — продолжал он. — Спасибо! Не забуду я тебе этого. Да только приюта я не стою. Испортил я свою жизнь и не служил мысли, как следует…
— Молчи! — продолжал Лежнев. — Каждый остается тем, чем сделала его природа, и больше требовать от него нельзя! Ты назвал себя Вечным Жидом…* А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение: народная мудрость гласит недаром, что все мы под богом ходим. — Ты едешь, — продолжал Лежнев, видя, что Рудин брался за шапку. — Ты не останешься ночевать?
— Еду! Прощай. Спасибо… А кончу я скверно.
— Это знает бог… Ты решительно едешь?
— Еду. Прощай. Не поминай меня лихом.
— Ну, не поминай же лихом и меня… и не забудь, что я сказал тебе. Прощай…
Приятели обнялись. Рудин быстро вышел.
Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса: «бедняк!» — и, сев за стол, начал писать письмо к своей жене.
А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок… И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!
В знойный полдень 26 июня 1848 года, в Париже*, когда уже восстание «национальных мастерских» было почти подавлено, в одном из тесных переулков предместия св. Антония* баталион линейного войска брал баррикаду. Несколько пушечных выстрелов уже разбили ее; ее защитники, оставшиеся в живых, ее покидали и только думали о собственном спасении, как вдруг на самой ее вершине, на продавленном кузове поваленного омнибуса, появился высокий человек в старом сюртуке, подпоясанном красным шарфом, и соломенной шляпе на седых, растрепанных волосах. В одной руке он держал красное знамя, в другой — кривую и тупую саблю, и кричал что-то напряженным, тонким голосом, карабкаясь кверху и помахивая и знаменем, и саблей. Венсенский стрелок* прицелился в него — выстрелил… Высокий человек выронил знамя — и, как мешок, повалился лицом вниз, точно в ноги кому-то поклонился… Пуля прошла ему сквозь самое сердце.
— Tiens! — сказал один из убегавших insurgés другому, — on vient de tuer le Polonais[63].
— Bigre![64] — ответил тот, и оба бросились в подвал дома, у которого все ставни были закрыты и стены пестрели следами пуль и ядер.
Этот «Polonais» был — Дмитрий Рудин.*
Два слова о Грановском
Письмо к редакторам «Современника»
Auch die Todten sollen leben*[65].
Шиллер.
Вчера были похороны Грановского. Не буду говорить вам, как сильно поразила меня его смерть. Потеря его принадлежит к числу общественных потерь и отзовется горьким недоумением и скорбью во многих сердцах по всей России. Похороны его были чем-то умилительным и глубоко знаменательным; они останутся событием в памяти каждого участвовавшего в них. Никогда не забуду я этого длинного шествия, этого гроба, тихо колыхавшегося на плечах студентов, этих обнаженных голов и молодых лиц, облагороженных выражением честной и искренней печали, этого невольного замедления многих между разбросанными могилами кладбища, даже тогда, когда уже всё было кончено и последняя горсть земли упала на прах любимого учителя… Одни и те же ощущения наполняли всех, высказывались во всех устах, во всех взорах, всем хотелось продлить их в себе, и расходиться было жутко… Всякое общее чувство, даже скорбное, связуя людей, возвышает их. Каждый из пришедших на кладбище, к какому бы направлению ни принадлежал он, слишком хорошо знал, чего лишилась в Грановском русская жизнь и русская наука. Для душ молодых, еще не искушенных, не утомленных «плоской незначительностью» житейских дрязг, такие ощущения особенно благотворны; под наитием их сердце крепнет и семена будущих добрых дел и доблестных поступков зреют в нем… Дай бог, чтобы мы научились хотя эту пользу извлекать из наших утрат!
Вероятно, о Грановском будет написано много*; на учениках его*, на его товарищах лежит долг растолковать его значение, объяснить причины общего сочувствия к нему, оценить его влияние. Сообщу вам несколько моих воспоминаний о нем. Я познакомился с ним в 1835 году в С.-Петербурге, в университете, в котором мы были оба студентами, хотя он был старше меня* летами и во время моего поступления находился уже на последнем курсе. Он не занимался исключительно историей; он даже писал тогда стихи (кто их не писал в молодости?), и я смутно помню отрывок из драмы «Фауст», прочитанный мне им в один темный зимний вечер, в большой и пустой его комнате, за шатким столиком, на котором вместо всякого угощения стоял графин воды и банка варенья.