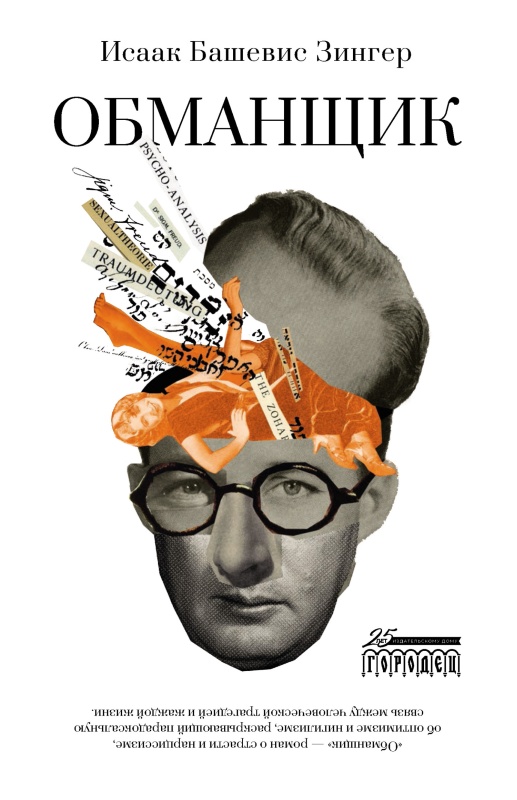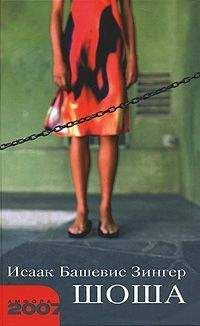и так сказать. Каждая хочет от меня ревностного исполнения всех ее чепуховых прихотей. Но я не могу. Это противно моей натуре.
– Моей натуре противно делиться с другими. Впрочем, это уже не имеет значения. Мне больше не нужен муж, нужна лишь сиделка, и ты для этого определенно не годишься. Я побуду здесь, в квартире, сколько смогу, а потом меня опять положат в больницу. Хочу сказать тебе только одно: ты ни в чем передо мной не виноват. Я не девочка, и ты меня не соблазнял. Я плохо жила с первым мужем, и мне казалось, ты вправду меня любишь. Я думала, мы будем вместе жить, вместе путешествовать, разделять мысли и чувства друг друга. Не будь я слепа или не желай я быть слепой, я бы поняла, что ты не способен так жить. Что бы ты мог мне сказать? На свой лад ты глубокий мыслитель, хочешь изменить мир, а я простая варшавская женщина. Я говорю серьезно, без сарказма. Я сделала ошибку и должна заплатить за нее. С другой стороны, я вовсе не расплачиваюсь. Останься я в Польше, меня бы, наверно, тоже не было в живых или я бы носила желтую звезду и смотрела, как мои дети умирают с голоду. Здесь я, по крайней мере, умру по-человечески.
– Зачем умирать?
– Зачем жить? У меня больше нет для этого оснований. Неинтересно мне есть или – извини! – ходить в ванную. Если это все, что Бог может нам дать, я с легкостью верну Ему сей дар.
Герц был не из тех, у кого глаза на мокром месте, но тут едва не заплакал. Эта «простая варшавская женщина» самым недвусмысленным образом выразила протест против божественного закона. С гордостью отвергла дар, над которым все тряслись, – боже упаси потерять его. Он вдруг вспомнил первые свидания с нею, прогулки, кафе, где они сидели. А еще подумал, что мог бы говорить с нею, путешествовать вместе с нею, делить физическое и духовное существование. Но как только завладел ею, он потерял к ней всякий интерес, как ребенок к кукле, с которой уже наигрался. Стал обращаться к ней полуироническим тоном. Начал сразу же высматривать других женщин. И быстро обнаружил все ее недостатки: апатичность, нехватку воображения, банальность. Он искал в женщине нечто такое, что найти невозможно, а если и возможно, оно все равно не имело никакой ценности.
– Броня, – сказал он, – не отталкивай меня. Кроме тебя, у меня никого нет.
– Что ты будешь со мной делать? Мне день ото дня все хуже. Если я и раньше была никчемной, то теперь вообще никуда не гожусь.
– Я помогу тебе выздороветь.
– Я больше не хочу выздоравливать. Сделай одолжение, Герц, возвращайся к своим женщинам. Или найди себе новых. Я больше не хочу участвовать в этих играх. Если вправду есть душа, и иной мир, и все прочее, я хочу их увидеть. А если там нет ничего, так оно и лучше. Моя бабушка говорила: «Печеные груши и те надоедают».
До сих пор Броня говорила по-польски, но последние слова сказала на идише.
Все внутри Герца замерло и отяжелело. Как странно – три женщины разом отвергли его. Он не мог оставаться здесь, но идти ему больше некуда. Драматург, управлявший всеми людскими драмами и комедиями, по обыкновению, нанес ловкий и сокрушительный удар.
Он встал.
– Что ж, я возвращаюсь в Нью-Йорк. Оставлю тебе чек.
– Мне не нужен чек.
Прошло несколько дней, Герц Минскер уже готовился к отъезду в Нью-Йорк.
Однажды рано утром зазвонил телефон. Звонил Липман.
– Мистер Минскер, – сказал он, – босс хочет с вами поговорить.
– Мистер Вейскатц?
– У меня только один босс.
Немного погодя Герц услышал решительный хрипловатый голос Бернарда Вейскатца.
– Почему вы бросили дела и уехали в Майами? – кричал он. – Снега испугались? В Блэк-Ривер снег выпадает в ноябре и лежит до мая. Ну да ладно. Пусть Майами. Я тоже хочу погреть кости и приеду к вам вместе с Липманом. И Мирьям нашу прихвачу. Зачем ей мерзнуть в Нью-Йорке, если можно поджариться в Майами? Мы все остановимся в одной гостинице, не во владениях обнищавшего короля, как говаривал мой отец, а в приличном отеле. Живем-то один раз. Я могу позволить себе хоть дворец. Буду завтра. Нам с вами надо многое обсудить, очень-очень многое!
Герц Минскер едва успел положить трубку, как телефон зазвонил снова. «Так-так, уже начинаются сложности!» – подумал он. И услышал голос Минны:
– Герц, это ты?
– Да, я.
Повисло молчание, Герц крепче прижал трубку к уху.
– Ну же, говори. Я тебя не побью.
– Вот и хорошо. Уже побил. Забыл, но я помню.
– Я тоже.
Снова молчание.
– Герц, Моррис плохо себя чувствует, и я сказала ему, чтобы он забыл о бизнесе и поехал в Майами. С ним так трудно. Засел в Нью-Йорке и не желает сдвинуться с места. Я намекнула, что ты там. А он, как услышал об этом, вообще уперся. Мне жаль его. Умрет ведь, не дай бог, если не возьмет себя в руки. Ты долго там пробудешь?
– Сюда приезжает Вейскатц с Липманом.
– Они едут за тобой? Счастливчик. Герц, я соскучилась, – сказала Минна совсем другим тоном.
– Я тоже по тебе соскучился.
– Так почему же мы ведем себя как два дурака? – вскричала Минна. – Я ночи напролет не сплю. Перебираю в памяти все, что было между нами, и хорошее, и плохое. Ты доставил мне много горя, куда больше, чем злейшие мои враги, в тысячу раз больше! Но женщина – существо безумное. Ты привязал меня, Герц. Привязал к себе цепями гипнотизма. Как ты это делаешь? Я тоже хочу научиться. Лежу в постели, и все во мне словно бы рвется к тебе, словно какие-то руки хватают меня и тащат. Что со мной творится? Я должна приехать к тебе!
– Приезжай! Не медли ни минуты!
– Я приеду, вместе с Моррисом. Он страшно переутомился. Когда я сказала, что ты не хочешь писать предисловие к моей книге, он был просто сломлен. Редкостный человек – верный, преданный. Если б я только могла любить его! Он так этого заслуживает. Но я не могу. То есть я люблю его, но не как тебя. Я хочу, чтобы он жил, был здоров и процветал, но когда он приближается ко мне, меня тошнит. Как это объяснить? Он мужчина, а не женщина. Но он становится таким мягким, твердит такие вещи, что я чувствую себя больной, и это убивает все. У