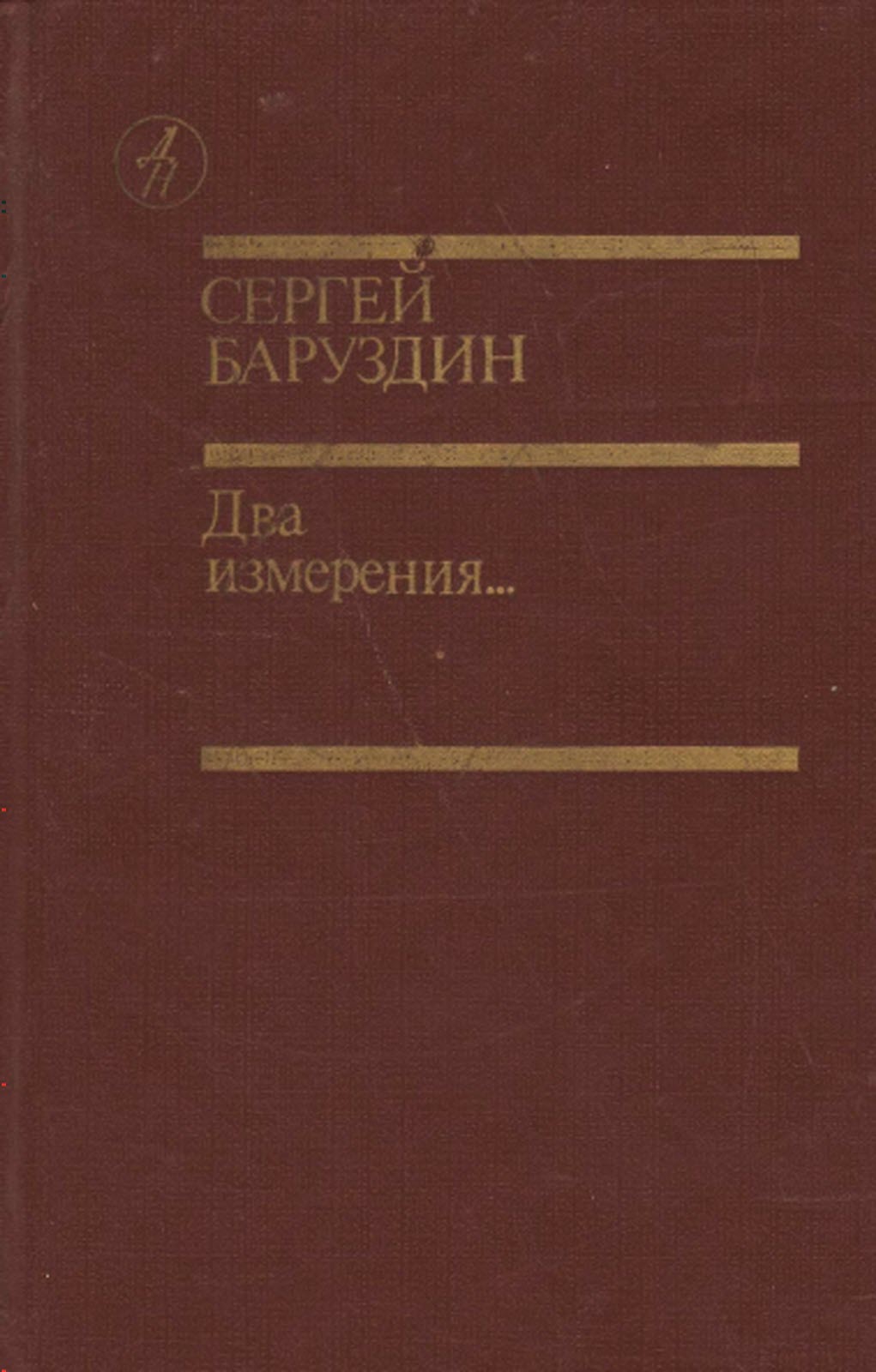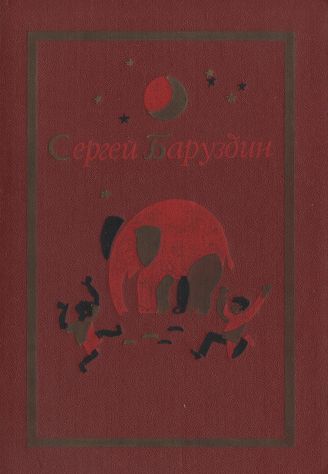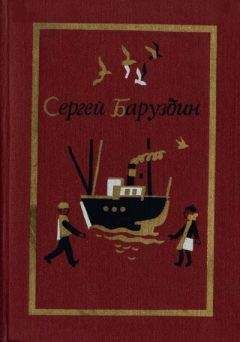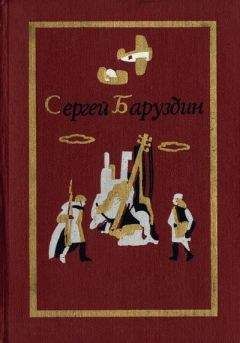class="p1">— Что? — спросил я.
— Если… Если они еще искренние…
Она смотрела на меня задумавшись.
Что мне было сказать?
«Искренние, искренние, конечно, искренние!» — хотелось крикнуть. Но я молчал.
А война все катилась и катилась на восток. Все уже привыкли и немецким самолетам в небе и к воздушным боям, которые все чаще вспыхивали над деревней, и к грохоту зениток на станции, и к проходящим через деревню воинским частям, и к колоннам беженцев, и тощим стадам, которые тянулись в глубь страны.
Я раз в неделю писал маме, и вот в начале сентября от нее пришло грозное письмо: «…наш наркомат эвакуируется в Горький, а потом в Куйбышев. Немедленно возвращайся домой!» Письмо меня ошеломило.
«Какая эвакуация? И зачем мне ехать в этот Горький или Куйбышев? Уж лучше бы на фронт! Или, в конце концов, здесь работать. Как-никак польза…»
Я побежал к Тоне. Постучал к ней в дверь. Когда она вышла, сразу заметила, что что-то случилось. Я протянул письмо. Она долго его читала. Потом сказала:
— Надо ехать!
И добавила:
— Дай я тебя поцелую!
Она целовала меня как-то горячо и беспорядочно, а я прижимался к ней и думал, что вот-вот разревусь.
Я не плакал, когда в школе катался на перилах и свалился в пролет лестницы, пролетев полтора этажа.
Я не плакал, когда летом залез в колючую проволоку и меня вынимали оттуда с помощью ножниц.
Я не плакал, когда прыгнул с крыши двухэтажного дома и сломал себе пяточную кость.
А тут…
Немцы вошли в Семеновку в начале октября. Вошли без боя. Наши отступили за Оку, взорвав перед этим железнодорожный мост.
Жители растащили перед приходом немцев все хозяйство. Лошадей, скот, зерно, овощи. Кое-что попрятали. Полуторку сожгли. В поле остались только свекла и капуста.
Колонна немцев — бронетранспортер, три танка и несколько десятков мотоциклистов — прошла через всю деревню и остановилась на площади возле старенького клуба. Из бронетранспортера вылез белобрысый, загорелый обер-лейтенант, а с ним бывший житель Семеновки, преподаватель немецкого языка Иван Карлович Фогель. Несколько недель назад он куда-то исчез, ходили слухи, что его выселили, но вот он вернулся. На нем была немецкая шинель, на рукаве повязка со свастикой, на седой голове фуражка с околышем. Жителей деревни, включая самых древних, согнали на площадь.
Фогель, что-то согласовав с обер-лейтенантом, поднялся на специально принесенную табуретку.
— Слушайте приказ коменданта обер-лейтенанта Кесселя! — выкрикнул он. — Первое: все имущество и продукты вернуть в совхоз. Срок — двадцать четыре часа. Работать будете в совхозе только на нужды германской армии. Второе: с девяти вечера до шести утра комендантский час. За выход на улицу — расстрел без предупреждения. Третье, — и тут Фогель почему-то перешел на плохой русский. — Я есть ваш староста. Все!
Тоня стояла среди молчавших и лишь изредка мрачно вздыхавших односельчан и собралась уже было направиться к своему дому, но увидела, что туда идут оберлейтенант с Фогелем, за ними денщик с чемоданом. Она остановилась, замерла на минуту и вдруг рванула влево к крайнему дому Михеевых. Сам Федор Прокофьевич, их учитель физики, еще в июле ушел в Красную Армию, но в доме осталась жена с ребятами. И Тоня скрылась там.
Ее нашли вечером. Нашел Фогель, пришедший с тремя автоматчиками. Зло бросил:
— Докомсомолилась! Одевайся! Живо выходи!
Немцы связали ей руки за спиной.
Пока связывали руки, Тоня пробовала плюнуть Фогелю в лицо. Он увернулся.
— Гад, предатель! — процедила она.
Фогель невозмутимо улыбнулся:
— Крылышки обломают.
Ее вытолкнули на улицу и повели по деревне. Жители испуганно смотрели на Тоню из окон и палисадников. Немцы шли с автоматами на изготовку, Фогель — держась за кобуру.
Возле ее дома стоял офицерский денщик. Он приоткрыл дверь, и Тоню впихнули туда. Два солдата замерли у входа. Вскоре из дома вышли Фогель и третий немец. Они направились к дому Ивана Карловича.
А утром дверь распахнулась, и на пороге оказалась Тоня. Лицо ее опухло, глаза заплыли, на щеках и на лбу виднелись кровавые царапины. Платье под расстегнутым полушубком было изодрано.
За ней в сени вышел офицер в расстегнутой гимнастерке и крикнул часовым:
— Ласэн зи зи дурхь! Золь зихь дас бист цум тойфель шэрэн! [28]
А Тоня, ничего не видя перед собой, спустилась с крыльца, открыла калитку, пересекла улицу и, как была, растрепанная — одна коса впереди, другая позади, со свалившимся на плечи платком, — направилась в поле. Фигура ее, медленно покачиваясь, двигалась вдоль рядов капусты в сторону леса.
Сотни глаз следили за ней, а она все шла и шла, не оборачиваясь, будто слепая. Она не боялась, что ей выстрелят в спину, да немцы и не решались стрелять без команды. Они сами, как завороженные, смотрели ей вслед.
А Тоня шла. Вот уже и поле осталось позади, а впереди появился кустарник и молодняк, осиновый и березовый. Она скрылась за первыми кустами и березками и вскоре совсем исчезла.
Впрочем, я не видел этого и узнал все много-много лет спустя.
Есть, наверное, что-то закономерное в том, что к пятидесяти тебя начинает упрямо тянуть в детство твое и юность. Вот и я как-то не выдержал и, не сказав ничего даже домашним своим, направился в Семеновку.
Деревню, конечно, узнать было невозможно. Асфальт. Слева и справа каменные дома — одноэтажные и двухэтажные. На площади Дом культуры, магазин с кафе на третьем этаже, какие-то службы быта.
А в середине площади ограда. Мраморный треугольник со звездочкой наверху и с бронзовой дощечкой: «Комсомолка-партизанка Тоня Алферова. 1923–1942».
А чуть ниже, на такой же дощечке, выбиты слова:
Все пройдет, и зимними порошами
Заметет прошедших весен нить.
Все равно ты самая хорошая,
И тебя немыслимо забыть…
А вокруг в зелени травы еще дощечки. Я насчитал двадцать восемь. На них фамилии и даты. Последняя для всех одна: «1942». Это те, кто освобождал Семеновку.
Я стоял у этой ограды и, бог ты мой, о чем только не передумал…
Отец умер три года назад, когда ей, Зине, было тринадцать. Умер он далеко, на пограничной заставе, где находился в командировке, и в Москве, на похоронах, они прощались не с отцом, а с закрытым цинковым гробом. Мама была совершенно беспомощна, и похороны организовали сослуживцы. Их, военных, было много, и еще был военный оркестр и салют. Мама стояла с замершим восковым лицом, не плакала, ничего не говорила, и Зина придерживала