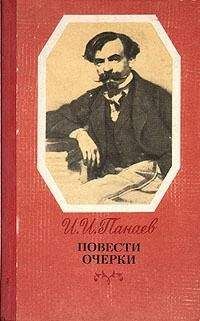Иван Александрович хотел возражать, но Марья Владимировна не дала ему вымолвить слова.
— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Нет, уж я водевиль ни на что на свете не променяю.
Иван Александрович вздохнул.
В другой раз речь зашла о романах. Иван Александрович выхвалял Вальтера Скотта (вы уже знаете, что это один из любимых писателей Ивана Александровича), доказывал, что до Вальтера Скотта не существовало романа, что "роман только в наши дни получил свое высшее достоинство его гением, что и после Ричардсона, Лесажа и Руссо он все еще не имел права на название сочинения определенного и положительного, несмотря на то, что существовали "Новая Элоиза", «Вертер» и проч., и проч… словом, повторил все то, что говорили о нем европейские критики и что вслед за ними печатали наши журналы. Иван Александрович говорил горячо и долго. Марья Владимировна только из одного приличия не зевала. Когда он кончил, она сказала:
— Что ни говорите, Иван Александрович, а ваш Вальтер Скотт прескучный, пренесносный: я не нахожу в нем ничего хорошего. Как можно его сравнить с Дарленкуром или Поль де Коком? Дарленкур такой чувствительный писатель, а Поль де Кок такой забавный. Я всегда хохочу до истерики от его романов. Я очень люблю Поль де Кока.
— Поль де Кок! — Иван Александрович хотел что-то возразить, но слова замерли на языке его. — Поль де Кок! — повторил он снова глухим голосом и снова остановился.
Минут через пять он собрался с духом и сказал:
— Помилуйте, Марья Владимировна! Я не знаю, что же вы находите хорошего в Поль де Коке?
— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Ну, что ваш Вальтер Скотт-то написал хорошего? Признаюсь вам, меня никто так не забавляет, как Поль де Кок… Иван Александрович вздохнул.
С этой минуты он совершенно охладел к Марье Владимировне, так охладел, что ему было все равно, есть ли она на свете или нет. Не вините же Ивана Александровича за непостоянство, не говорите же, что он без причины разлюбил эту женщину! О нет! Он готов был любить ее страстно, безумно, он готов был боготворить ее; но я знаю наверно: он не воображал, чтобы в Петербурге могла найтиться женщина, которая бы любила одни только водевили да романы Поль де Кока. И еще женщина из такого прекрасного круга!
Они просто не сошлись. Иван Александрович думал найти в Марье Владимировне существо, гармонировавшее с ним… Что ж делать! он ошибся, он еще мало знал людей.
Проказник! он думал, что все должны иметь одинаковый с ним вкус, одинаковый образ мыслей…
Вот отчего Иван Александрович так холодно принял приглашение Марьи Владимировны. Да и Федор Егорович стал наскучать ему: он беспрестанно приставал с своими стишками.
— У меня есть небольшое стихотвореньице, Иван Александрович, — говорил он, пожимая ему руку, — так, знаете, я сочинил для забавы, когда жил прошлое лето по Парголовской дороге. Вы знакомы с одним журналистом, по дружбе — этак, попросите, чтобы он напечатал в своем журнале. Видите, я посвятил эти стишки Марье Владимировне, она ведь охотница до поэзии и, между нами сказать, смыслит кое-что в этом деле. Она очень хвалила вот это место…
Федор Егорович вынул из кармана бумажку, всю исписанную, и начал читать с большим чувством:
Ручей бежал между кустами,
Я молча плакал у ручья;
Но ты не тронулась слезами,
Жестокосердая моя!
Уж солнце к западу клонилось,
И я побрел к себе домой,
И голова моя скатилась
На грудь, изрытую тоской!..
А? как вы находите это место?
— Очень хорошо, — отвечал Иван Александрович.
— Знаете, тут много меланхолии, не правда ли? У меня вообще этак… меланхолическое расположение в моих стихах…
"Неотвязчивый человек, несносный! — думал однажды Иван Александрович, разбирая свои бумаги и отыскав между ними стихи Федора Егоровича. — Ну, что я буду делать с этими стихами?" Вдруг между бумагами мелькнуло что-то красненькое.
"Что бы это такое?.." — подумал Иван Александрович.
Кошелек! Это тот самый кошелек, который Елизавета Михайловна отдала ему с своими деньгами и который она никак не хотела взять назад.
Иван Александрович призадумался над этим кошельком. Он вспомнил, с каким восторгом эта добрая девушка отдавала ему свои последние деньги, как она была огорчена, когда он не хотел брать их… Он вспомнил ее слезы и потом эту непритворную радость, когда он решился взять деньги…
"Боже мой!" и вдруг мысль: что, если она любит меня? — впервые блеснула в голове его…
И в час, как с молитвой на бледных устах Ты в смертной борьбе трепетала, Ты эту молитву с слезой на глазах О благе моем лепетала.
Э. Губер.
Но да видишь лепе девойке!..
Из сербской песни.
Прошло еще два месяца, кажется, что два, а может быть, немного и более, после той минуты, когда Ивану, Александровичу попался на глаза кошелек Елизаветы Михайловны и заставил его задуматься. В эти два месяца он внимательно наблюдал за нею. "Да, она любит меня, точно, любит, милая девушка!" Так рассуждал он сам с собою, греясь в один вечер у печки. Зима в этот год была ужасно холодная. "И я не видел прежде любви ее? И я предпочитал ей эту Марью Владимировну! тогда как перед глазами у меня был настоящий ангел, я гонялся, сам не знаю за чем… Светская дама! Хороши же эти светские дамы!" Иван Александрович, рассуждая таким образом очень долго, вовсе не замечал, что сальная свеча, стоявшая перед ним на столе, так нагорела, что в комнате не видно было ни зги; он даже не слыхал, как вошла в комнату Елизавета Михайловна, не видал, как она приблизилась к столику, на котором стояла свеча, как она сняла со свечи, и если бы не ее ах! при виде Ивана Александровича, то он, вероятно, еще не скоро бы очнулся.
— Я думала, что здесь никого нет. Вы не поверите, как я испугалась.
— А я, ей-богу, и не слыхал, как вы вошли сюда, Елизавета Михайловна.
— О чем вы так задумались, Иван Александрович? Иван Александрович хотел чтото сказать, заикнулся на первом слове и замолчал. У него недостало духу пересказать ей то, о чем он думал; но пристально, необыкновенно пристально посмотрел он на Елизавету Михайловну. Этим взглядом он, казалось хотел проникнуть в самую заповедную глубь ее сердца.
Она стояла перед ним пригорюнясь, поддерживая одною рукою локоть руки, на которую упадала ее головка, — бледна, как мрамор, неподвижна, как статуя.
— Что с вами? — произнес он после минуты молчания.
— Маменьке сделалось хуже… Она очень слаба.
Голос, которым были произнесены слова эти, произвел странное действие на Ивана Александровича: у него пробежал мороз по коже от этого голоса.
— Бог милостив, зачем отчаиваться? К тому же Франц Карлович говорит, что у нее нет никакой опасной болезни.
— Она очень больна, — повторила тем же голосам Елизавета Михайловна, — очень, — и этот голос перервался, задушенный рыданьем, и она закрыла руками лицо.
Иван Александрович бросился к стулу.
— Сядьте, сядьте, Елизавета Михайловна, вы насилу стоите. Полноте, успокойтесь, право, бог не допустит такого несчастья.
Она опустилась на стул.
— Бог не допустит, — повторила она, — но если, если ее не станет, — и она вдруг отерла слезы, схватила Ивана Александровича за руку, глаза ее горели, губы дрожали, голос беспрестанно прерывался, — если ее не станет, я не переживу этого… Ее гроб — мой гроб. И что же моя жизнь без ее жизни?..
— Послушайте, Елизавета Михайловна, не одна тетушка в мире умеет ценить и любить вас. Если уж богу будет угодно… то останется здесь еще человек, который любит вас не меньше ее, для которого вы… — Он не мог договорить, он сжал ее руку и робко взглянул на нее.
Она пошатнулась, какой-то несказанно сладостный трепет пробежал по всем ее членам: она еще никогда не ощущала ничего подобного, туман застилал ее очи. Это была минута забытья, это был неопределенный, неуловимый переход от бодрствования ко сну…
Долго не могла она ничего произнесть, долго рука ее лежала в его руке; наконец она отдернула эту руку и протерла глаза.
Снова нагоревшая свеча разливала слабый, красноватый свет по комнате… Она осмотрела кругом себя… Что это? греза?
— Елизавета Михайловна! Елизавета Михайловна! — говорил Иван Александрович почти шепотом. — Я люблю вас, я люблю вас, бог свидетель, что ваше спокойствие, ваше счастье дороже всего для меня…
Она вздрогнула.
— Иван Александрович! о, это не сон! — и она опять протирала глаза, — вы не смеетесь над бедною девушкой? Нет?
— Боже мой! Да, я люблю вас! — повторил он, — люблю… Но скажите мне одно слово, только одно… любите ли… В этом слове для меня все, все мое существование, моя жизнь… о, скажите мне…
Он не мог больше говорить, переполненный чувством…