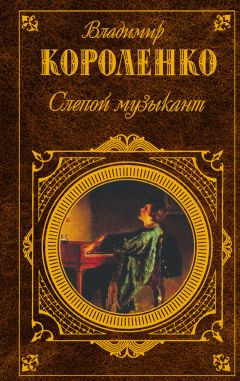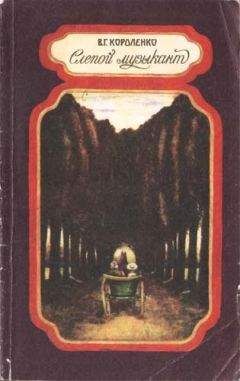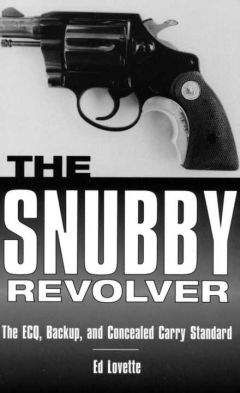Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору: кузнеца позвали – ковать в ручные и ножные кандалы накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» – говорит кузнецу. Потом «наручни» покрестил, сам руки продел. «Сподоби, говорит, господи, покаяния ради!»
Ямщик замолчал и опустил голову, как будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять:
– Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости, господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.
Да ведь и не я один. Поверишь ли, «шпанка» тюремная – и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!
Ну а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и взошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат… Что ни надумаю – все про себя; худо ли, хорошо ли – ни у кого не спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться; подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.
– Что надо?
– Ничего, говорю, не надо, а так… навестить пришел. Чай, одному-то скучно.
– Не один я здесь, отвечает, а с богом, с богом-то не скучно, а все же доброму человеку рад.
А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает головой. А раз как-то и говорит:
– Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу тебя всего видеть.
Отошел я маленько, он глаз-то к дыре приставил, смотрел, смотрел и говорит:
– Что ты за человек за такой, сказывайся.
– Чего сказываться-то, – отвечаю ему, – самый потерянный человек, больше ничего.
– А можно ли, говорит, на тебя положиться? Не обманешь?..
– Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно.
Подумал он немножко, а потом опять говорит: «Нужно мне человека на волю спосылать нынче ночью. Не сходишь ли?» – «Как же мне, говорю, отсюда выйти?» – «Я тебя научу», – говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!..» А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко… Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись… Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное… А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завертится, – просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор да на волюшку…
Однако вспомнил про старика своего… «Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал, да и повернулся к острогу. Назад не гляну… Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит да на меня из-за решетки смотрит.
Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он. «Ну, говорит, спасибо тебе, дитятко. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень, – спрашивает после, – на волю-то небось крепко хочется?» А сам смеется. «Так, говорю, хочется, смерть!» – «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?» – «Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего». Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе бог дал силу, и года твои, можно сказать, уж не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут… Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спáсенье…»
«Греха, отвечаю, много».
«А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли?» – «Горько мне, говорю». – «Горько! А о чем – и сам не знаешь. Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согрешишь – и не покаешься, а не покаешься – не спасешься. Понял ли?»
А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таежная. Ни себе, ни другим.
«Это, говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят».
«Ну, – говорит старик, – это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою… Обещаешь ли меня слушаться – укажу тебе путь к покаянию». – «Обещаюсь, говорю». – «И клянешься?» – «И клянусь…» Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи – в огонь пойду, а в воду – так в воду.
Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится: руку-то ему купец на разбое пулей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился: «Пропадай, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.
Вскорости Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел…
Ну а еще через малое время – и совсем освободился. Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, потом провели к нему Безрукого.
Не прошло полчаса, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало – тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:
«Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету».
«А как тебя звать-то?» – спрашивает заседатель.
«Федором, мол, зовут, Силиным».
«А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза, чтоб напредки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его…»
«Ну вот и отлично, – говорит Безрукой. – А ты, парень, – отозвал он меня к сторонке, – как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни».
И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня Безрукой прислал. «Знаю, говорит. Сказывал об тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим». – «А сам-то, мол, Безрукой где же находится?» – «В отлучке, говорит, по делам он все ездит. Никак, скоро будет».
Вот и стал я жить на заимке – работником не работником, так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой, да работник… Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева – люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки – ни-ни! А работник Кузьма – тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало, колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, завидит, тотчас бегом в тайгу и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут – не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.
Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почитай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему, все некогда. «Погоди, говорит, дитятко, ужо на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосуг». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особливо ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже: пуще дума одолевает, места себе не найду…