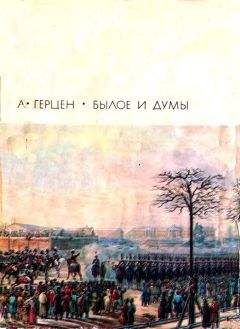Посоветовавшись с тем и другим, он увидел, что без объявления или карточек не обойдется.
"Но вот беда: как взглянет на это русское правительство..." - думал я, думал, да и напечатал анонимные карточки.
Долго я не мог нарадоваться на это великое изобретение - мне в голову не приходила возможность визитной карточки без имени.
С своими анонимными карточка ми, с большой настойчивостью труда и страшной бережливостью (он живал дни целые картофелем и хлебом) он сдвинул-таки свою барку с мели, стал заниматься торговым комиссионерством, и дела его пошли успешно.
И это именно в то время, когда дела другого лейб-гвардии павловского офицера пошли отвратительно. Разбитый, обкраденный, обманутый, одураченный, шеф Павловского полка отошел в вечность. Пошли льготы, амнистии. Захотелось и Савичу воспользоваться царскими милостями, и вот он пашет к Бруннову письмо и спрашивает, подходит ли он под амнистию. Через месяц времени приглашают Савича в посольство. "Дело-то, - думал он, - не так просто - месяц думали".
- Мы получили ответ, - говорит ему старший секретарь" - Вы нехотя поставили министерство в затруднение: ничего об вас нет. Оно сносилось с министром внутренних дел, и у него не могут найти никакого дела об вас. Скажите нам просто, что с вами было - не может же быть ничего важного!..
- Да в сорок девятом году мой брат был арестован и потом сослан.
- Ну?
- Больше ничего.
"Нет, - подумал Николаи, - шалит", - и сказал Савичу, что, если так, министерство снова наведет справки. Прошли месяца два. Я воображаю, что было в эти два месяца в Петербурге... отношения, сообщения, конфиденциальные справки, секретные запросы из министерства I" III отделение, из III отделения в министерство, справки у харьковского генерал-губернатора... выговоры, замечания... а дела о Савиче найти не могли. Так министерство И сообщило в Лондон.
Посылает за Савичем сам Бруннов. (303)
- Вот, - говорит, - смотрите ответ. Нигде ничего об вас - скажите, по какому вы делу замешаны?
- Мой брат...
- Все это я слышал, да вы-то сами по какому делу?
- Больше ничего не было.
Бруннов, от рождения ничему не удивлявшийся, удивился.
- Так отчего же вы просите прощенья, когда вы ничего не сделали...
- Я думал, что все же лучше...
- Стало, просто-напросто вам не амнистия нужна, а паспорт.
И Бруннов велел выдать пасс.
На радостях Савич прискакал к нам.
Рассказав подробно всю историю о том, как он добился амнистии, он взял Огарева под руку и увел в сад.
- Дайте мне, бога ради, совет, - сказал он ему. - Александр Иванович все смеется надо мной... такой уж нрав у него; но у вас сердце доброе. Скажите мне откровенно: думаете вы, что я могу безопасно ехать Веной?
Огарев не поддержал доброго мнения и расхохотался. Да что Огарев, - я воображаю, как Бруннов и Николаи минуты на две расправили морщины от тяжелых государственных забот и осклабились, когда амнистированный Савич вышел из. кабинета.
Но при всех своих оригинальностях Савич был честный человек. Другие русские, неизвестно откуда всплывавшие, бродившие месяц, другой по Лондону, являвшиеся к нам с собственными рекомендательными письмами и исчезавшие неизвестно куда, были далеко не так безопасны.
Печальное дело, о котором я хочу рассказать, было летом 1862. Реакция была тогда в инкубации и из внутреннего, скрытого гниения еще вылазила наружу. Никто не боялся к нам ездить. Никто не боялся брать с собой "Колокол" и другие наши издания; многие хвастались, как они мастерски провозят. Когда мы советовали быть осторожными, над нами смеялись. Писем мы почти никогда не писали в Россию - старым знакомым нам нечего было сказать, - мы с ними стояли всё дальше и дальше, с новыми незнакомцами мы переписывались через "Колокол". (304)
Весной возвратился из Москвы и Петербурга Кельсиев. Его поездка, без сомнения, принадлежит к самым замечательным эпизодам того времени. Человек, ходивший мимо носа полиции, едва скрывавшийся, бывавший на раскольничьих беседах и товарищеских попойках - с глупейшим турецким пассом в кармане - и возвратившийся sain et sauf26 в Лондон, немного закусил удила. Он вздумал сделать пирушку в нашу честь в день пятилетия "Колокола", по подписке, в ресторане Кюна. Я просил его отложить праздник до другого, больше веселого времени. Он не хотел. Праздник не удался: не было entrain27 и не могло быть в числе участников были люди слишком посторонние.
Говоря о том и сем, между тостами и анекдотами, говорили, как о самопростейшей вещи, что приятель Кельсиева Ветошников едет в Петербург и готов с собою кое-что взять. Разошлись поздно. Многие сказали, что будут в воскресенье у нас. Собралась действительно целая толпа, в числе которой были очень мало знакомые нам лица и, по несчастию, сам Ветошников; он подошел ко мне и сказал, что завтра утром едет, спрашивая меня, нет ли писем, поручений. Бакунин уже ему дал два-три письма. Огарев пошел к себе вниз и написал несколько слов дружеского привета Н. Серно-Соловьевичу - к ним я приписал поклон и просил его обратить внимание Чернышевского (к которому я никогда не писал) на наше предложение в "Колоколе" "печатать на свой счет "Современник" в Лондоне". Гости стали расходиться часов около двенадцати; двое-трое оставались. Ветошников взошел в мой кабинет и взял письмо. Очень может быть, что и это осталось бы незамеченным. Но вот что случилось. Чтоб поблагодарить участников обеда, я просил их принять в память от меня по выбору что-нибудь из наших изданий или большую фотографию мою Левицкого. Ветошников взял фотографию; я ему советовал обрезать края и свернуть в трубочку; он не хотел и говорил, что положит ее на дно чемодана, и потому завернул ее в лист "Теймса" и так отправился. Этого нельзя было не заметить. (305)
Прощаясь с ним с последним, я спокойно отправился спать - так иногда сильно бывает ослепленье - и уж. конечно, не думал, как дорого обойдется эта минута и сколько ночей без сна она принесет мне.
Все вместе было глупо и неосмотрительно до высочайшей степени... Можно было остановить Ветошникова до вторника - отправить в субботу. Зачем он не приходил утром, да и вообще зачем он приходил сам... да и зачем мы писали?
Говорят, что один из гостей телеграфировал тотчас в Петербург.
Ветошникова схватили на пароходе - остальное известно.
В заключенье этого печального сказанья скажу о человеке, вскользь упомянутом мною и которого пройти мимо не следует. Я говорю о Кельсиеве.
В 1859 году получил я первое письмо от него.
<ГЛАВА II>. В.И. Кельсиев
Имя В. Кельсиева приобрело в последнее время печальную известность... быстрота внутренней и скорость внешней перемены, удачность раскаяния, неотлагаемая потребность всенародной исповеди и ее странная усеченность, бестактность рассказа, неуместная смешливость рядом с неприличной - в кающемся и прощенном - развязностью - все это, при непривычке нашего общества к крутым и гласным превращениям, - вооружило против него лучшую часть нашей журналистики. Кельсиеву хотелось во что бы ни стало занимать собою публику; он и накупился на видное место мишени, в которую каждый бросает камень, не жалея. Я далек от того, чтоб порицать нетерпимость, которую показала в этом случае наша дремлющая литература. Негодование это свидетельствует о том, что много свежих, неиспорченных сил уцелели у нас, несмотря на черную полосу нравственной неурядицы и безнравственного слова. Негодование, опрокинувшееся на Кельсиева, - то самое, которое некогда не пощадило Пушкина за одно или два стихотворения и отвернулось от Гоголя за его "Переписку с друзьями". (306)
Бросать в Кельсиева камнем лишнее, в него и так брошена целая мостовая. Я хочу передать другим и напомнить ему, каким он явился к нам в Лондон и каким уехал во второй раз в Турцию.
Пусть он сравнит самые тяжелые минуты тогдашней жизни с лучшими своей теперичнои карьеры.
Страницы эти писаны прежде раскаянья и покаянья, прежде метемпсихозы и метаморфозы. Я в них ничего не переменил и добавил только отрывки из писем. В моем беглом очерке Кельсиев представлен так, как он остался в памяти до его появления на лодке в Скулянскую таможню в качестве запрещенного товара, просящего конфискации и поступления по законам.
Письмо от Кельсиева было из Плимута. Он туда приплыл на пароходе Североамериканской компании и отправился куда-то, в Ситку или Уналашку на службу. Поживши в Плимуте, ему расхотелось ехать на Алеутские острова, и он писал ко мне, спрашивая, можно ли ему найти пропитание в Лондоне. Он успел уже в Плимуте познакомиться с какими-то теологами и сообщал мне, что они обратили его внимание на замечательные истолкования пророчеств. Я предостерег его от английских клержименов28 и звал в Лондон, "если он действительно хочет работать".
Недели через две он явился. Молодой, довольно высокий, худой, болезненный, с четвероугольным черепом, с шапкой волос на голове - он мне напоминал (не волосами, тот был плешив), - а всем существом своим Энгельсона, и действительно он очень многим был похож на него. С первого взгляда можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося, но ничего пошлого. Видно было, что он вышел на волю из всех опек и крепостей, - но еще не приписался ни к какому делу и обществу - цеха не имел. Он был гораздо моложе Энгельсона, но все же принадлежал к позднейшей ширинге петрашевцев и имел часть их достоинств и все недостатки: учился всему на свете и ничему не научился дотла, читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодно голову. От постоянной критики всего (307) общепринятого Кельсиев раскачал в себе все нравственные понятия и не приобрел никакой нити поведенья29.