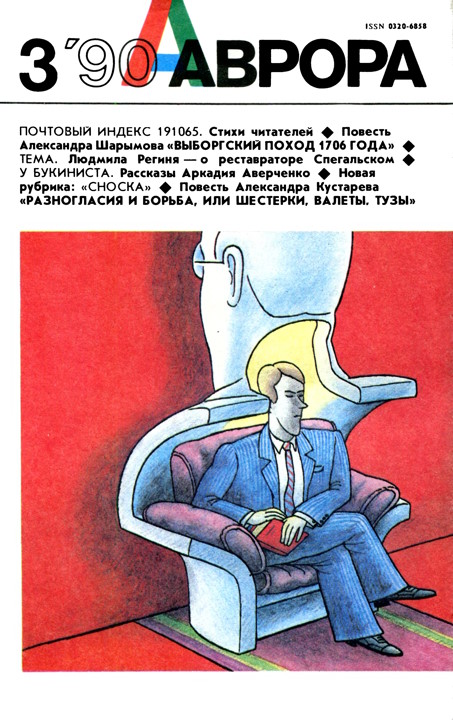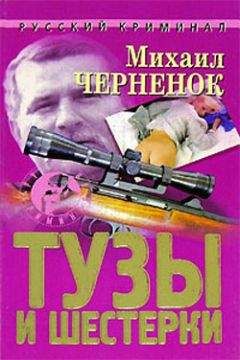которая у него лежала в сундуке, и не торгуя талантом как таковым.
Ненаглядову долго ехать на нем не пришлось. К защите диплома Привалов выволок из сундука почти все основные рукописи Свистунова, и тут Ненаглядова хватил инфаркт по-настоящему. Мало того, что рукописи Свистунова считались погибшими. Уже одно их обнаружение гарантировало собственнику твердую ренту. К тому же оказалось, что свистуновские рукописи особенно ценны, потому что Свистунов работал не за страх, а за совесть, и вследствие этого рукописи были страшно грязные, то есть полны вычеркиваний, вставок, исправлений и вариантов. Это означало, что стадия чисто текстологической работы растягивалась на долгое время и из нее можно было выжимать публикации дюжинами. Особенно же ценно было следующее. Учитывая обилие и такое состояние рукописей, можно было хорошо блокировать всех потенциальных конкурентов, рвущихся толковать творчество Свистунова. Мотив был прост: о чем говорить, если даже еще не ясно, что именно покойный написал. Вот, погодите, разберемся в самих текстах, тогда и налетайте, гуси-лебеди, а пока поищите себе чего-нибудь другого. Найдете — ваше счастье. Не найдете — идите инженерить.
Отлежавшись от инфаркта, Ненаглядоз попробовал еще раз расколоть Привалова. Привалов пожалел, как видно было, смертельно больного и разрешил ему написать предисловие к своей: книжке, которую тут же стал готовить на базе успешного диплома. Было это в 1968 г. Книжку он подготовил к 70-му, но тут у Ненаглядова случился еще один инфаркт. Умирающий старик умолял ускорить выход книги, но Привалов даже нарочно ее слегка подзадержал. Он понял, что Ненаглядов вот-вот помрет, и ему уже было Ненаглядова не жалко. Больных он еще жалел, но покойников ни-ни. Ненаглядов же был, в сущности, покойник. Помер он в 71-м, а в 72-м Привалов принес свою книжку в издательство.
Там его ждал сюрприз. Оказалось, что Ненаглядов в панике перед смертью накатал-таки предисловие и оно оказалось в руках у издательского редактора даже раньше книжки. Редактор был старый приятель Ненаглядова, они и в гимназии вместе учились, и в 37-м по одному делу проходили. Он стал уговаривать Привалова уважить память старика и включить его имя, в книжку. Но Привалов был неумолим, потому что не понимал, зачем покойнику слава. И был прав. Покойнику слава не нужна. Покойник и без славы проживет. А живому человеку слава необходима, потому что слава — товар, а нет товара — нет и навара.
Редактор повздыхал на эту неумолимую логику и переменил пластинку. Тогда, сказал он, давайте я подпишу это предисловие. Или давайте маленько его переделаем и пустим как статью в солидный журнал, перед выходом книжки это будет неплохая реклама.
Хороший товар в рекламе не нуждается, резонно отвечал Привалов. И вообще, продолжал он, теперь, когда Ненаглядова больше нет, Свистунов — мой. Он совершенно ясно дал понять редакционной крысе, что намерен верхом на Свистунове вплоть до член-кора доскакать. Архивом владею я, архив — мой, а стало быть, Свистунов — мой.
Редактор обозлился невероятно. Он был человеком старых взглядов, тайком верил в капитализм и был за то, чтобы все ж таки сначала хотя б для смеху устроить свободную конкуренцию, а не начинать прямо с монополии. В сердцах он намекнул, что вопрос о правах Привалова на архив может быть поставлен в соответствующем плане и в соответствующих инстанциях. Ведь Свистунов все-таки национальное достояние.
Привалов на это отвечал, что внешняя торговля, банки, почта и телеграф — вот вам национальное достояние. А Свистунов — это национальная гордость, и это уже немножко другое. И вообще, добавил он, у нашей семьи двойные права на эту собственность. Свистунов — это наш предок, а не ваш, товарищ Копытман, да, наш, а не ваш, и в прямом и в переносном смысле этого слова.
А сверх того на такие вещи есть еще и моральные права, и они тоже у нас. Потому что моя бабка, рискуя собственной жизнью, вынесла свистуновский архив из-под самого носа гаишников и прятала его по четырем разным адресам, хотя была почти уверена, что за ней следят. Привалов не врал. Ему мама так рассказывала. Это точно известно, что мама, потому что она так всем рассказывала. И правильно сделала, потому что если бы она рассказывала какую-нибудь другую, например, приведенную выше версию, то никто бы ей не поверил. Публику такие вещи не убеждают.
Редактор (Копытман) все это съел, но не утерся, а затаил страшную злобу, потому что как порядочный человек никому не мог простить подобной наглости. Привалов нажил врага.
Особенной беды в этом не было. Волков бояться, в лес не ходить. Привалов твердо знал, в большом деле враги всегда будут, но ври хорошей организации на каждого врага найдется по хорошему другу. В конце концов, все люди враги, но и друзья тоже, и без диалектики вражды и дружбы подлинной жизни не бывает, к этому надо относиться без паники. Главное — держаться за свое крепко. Социализм — это, конечно, звучит гордо, и даже прекрасно, и даже убедительно; пусть сберкассы будут общие, но что мое, то мое. Привалов наплевал на Копытмана.
Книжка вышла, расхватали ее моментально, на черный рынок попала чуть не половина тиража, рецензии были только положительные, а один критик, широко известный своим тайным антикоммунизмом, написал даже восторженную рецензию и первым прозрачно намекнул, что это дело тянет на государственную премию. Привалов только усмехнулся, потому что знал, что пока что не проходит на этот куш по возрасту, но был вполне удовлетворен, потому что намек на выдвижение в двадцать пять важнее и приятнее для души, чем сама премия в шестьдесят. Особенно полезно было то, что первым свой голос подал всем известный тайный антисоветчик. Это гарантировало шумный успех среди интеллигенции. Премия подождет, думал Привалов, народное уважение тоже не хер собачий.
Редактор (Копытман), тайный рыцарь лессе-фер [1], имел все основания, когда сетовал на монополию. Привалов контролировал Свистунова почти полностью. Где-то на далекой периферии еще копошились какие-то свистуноведы областного и краевого значения, в пику центру подсчитывающие количество шипящих в рифмовках поэта или занимавшиеся оформлением свистуновских стендов в краеведческих музеях. Это все было не в счет. Возник было на горизонте какой-то западник-формалист (не то в Паневежисе, не то в Даугавпилсе), объявивший Свистунова последователем не то Верлена, не то Верхарна, но Привалов тут же вытащил из сундука специальное заявление самого Свистунова, где он неодобрительно отзывался о закате буржуазной культуры и, как нарочно, особо заклеймил этих двух. Последовала убийственная публикация, и из структуралиста вышел воздух.
Был еще, правда, совсем