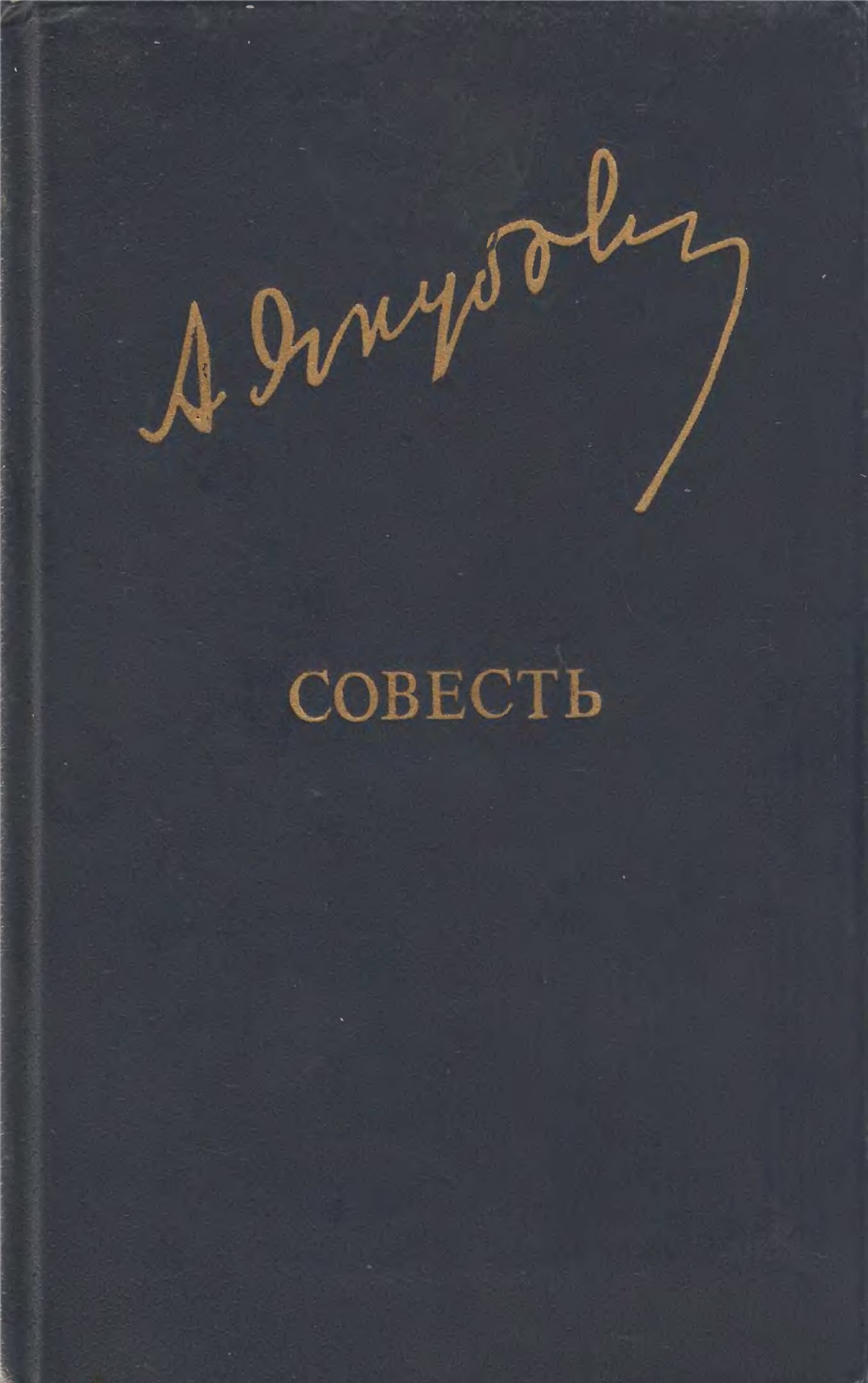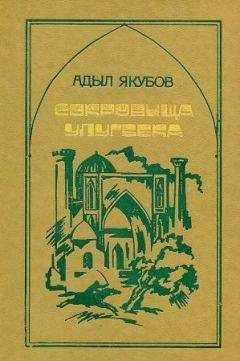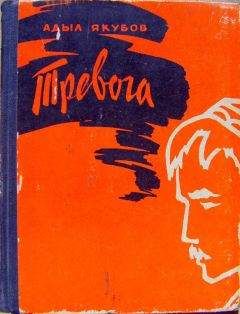жизнь, у сыновей, как отнесутся друг к другу без меня, после того, как умру? Думаю, думаю об этом, и сердце обливается кровью. Особенно тревожусь за младшего. Он больной, очень больной.
Али Кушчи отвел глаза.
— Да облегчит всевышний ваше бремя! — тихо пробормотал мавляна…
Наверху Улугбек предупредил Али Кушчи: никто не должен прознать о том, что унес мавляна из Кок-сарая. Посоветовал, как лучше, надежнее завязать в пояс халата драгоценный мешок.
— Какие еще будут приказы вашему слуге, досточтимый устод? — спросил Али Кушчи.
Улугбек устало провел ладонью по лицу.
— Ночь кончается, Али. Обо всем я уже сказал… Главным богатством своим всегда считал не трон, а труды для науки, — горячо, с болью и страстью сказал Улугбек. — Моя самая большая- любовь — библиотека, кладезь мудрости. Участь этого сокровища, повторяю, в твоих руках. Кому принадлежит оно? Стране нашей и всему роду людскому, разуму человеческому, выше и долговечней его ничего нет на свете, это ты верно сказал… И помни: если создатель лишит меня, своего смиренного раба, поддержки своей, лишит трона и власти, если невежды восторжествуют в Мавераннахре, тебе сохранить это сокровище для будущего. И мое доброе имя тем самым!.. Может быть, книги придется вывезти осторожно, тайком из города, спрятать где-то в горах… Уже сейчас поищи мастеров, пусть срочно делают десять… пятнадцать больших сундуков. Ты понял меня, Али?
— Понял, устод!
Улугбек положил руки на плечи шагирда.
— Благодарю тебя, аллах! Пусть не повезло мне с родными сыновьями, зато ты для меня, мавляна, большая награда в жизни.
И Улугбек, как когда-то Салахиддин Кази-заде Руми, поцеловал в лоб Али Кушчи, до слез растроганного и до крайности расстроенного.
Учитель и ученик по-братски крепко обнялись на прощанье.
Проводив Али Кушчи, Улугбек вернулся в залу, увешанную охотничьими трофеями и оружием. Из всех других комнат дворца он больше всего любил эту — просторную и тихую, где часто читал, думал над научными загадками и сочинениями мудрецов и поэтов, а порою, устав, просто спал. Ему приносили постель из опочивальни, и он отдыхал в углу, затененном ширмами.
Сейчас в этом углу на маленьком столике так и стояли блюда, подносы, разнообразная еда: шашлыки, приправы, хлебные лепешки, вино — ни к чему из этого не притронулись ни Улугбек, ни Али Кушчи…
Доложили, что прибыл Бобо Хусейн Бахадыр, любимый нукер из Улугбековой охраны; вчера он поскакал гонцом в Кеш.
Высокий и ладный красавец, Хусейн почти вбежал в залу, растрепанный, потный, даже не сняв остроконечного шлема; руки почтительно сложены на груди, но весь облик его яснее ясного говорил, что сейчас не до соблюдения ритуала: широкая грудь Хусейна вздымалась и опускалась, подобно кузнечным мехам, капли пота усеяли чернобровое лицо.
Воин пал ниц. Улугбек поставил на стол пиалу, побледнел.
— Что повалился? Вставай!
Хусейн легко приподнялся на колени.
— Не смею сказать, повелитель… Весть нерадостная…
— Говори же! — приказал султан.
— Неприятель и вправду в Кеше, повелитель. Градоначальник Кеша эмир Камалиддин отдал город без кровопролития.
Улугбек этого и боялся. Но, как всегда, когда подтверждались опасения, пусть и худшие, но подтверждались, у султана пропадала боязнь. Вместо нее появлялся гнев. Улугбек встал с кресла, прошелся по комнате. Глаза сощурены. Желваки ходят под скулами. Беспощаден. Крут. Бобо Хусейн Бахадыр опять пал лицом к полу.
— Вставай, вставай… Через час в поход! Чтобы все было готово, оружие, лошади, запас — все, все, слышишь?.. Правильно думаю? Говори!
— Воля повелителя — закон для подданных…
— Не о том спрашиваю! Правильно ли идти сейчас же, не собрав все силы воедино? Что думаешь, что скажешь?
— Правильно, повелитель. Времени терять нельзя… Только… ваш верный слуга полагает, надо бы поднять городское ополчение…
— Ополчение? Почему?
— Войска ведь немного, повелитель, и… город любит вас, верен вам, повелитель… Я говорю, город… простой люд городской… Военные отряды покорны воле эмиров, предводителей.
Улугбек задумался. Он понял намек Хусейна. Сам из низов, Хусейн и верил только им. Улугбек знал, чего стоит нынешняя преданность иных эмиров.
— Нет, не надо, Хусейн, — султан отрицательно покачал головой, — не надо. Что они смогут, ремесленники и чернь, против обученных воинов?.. Иди отдохни с дороги, Хусейн. Скоро опять в путь, а там…
Когда дверь за гонцом закрылась, Улугбек долил до краев пиалу вином и одним махом осушил ее до дна.
«Проклятье! Вот она, цена надежд!»
Да, он понимал, что войско Абдул-Латифа велико и что не будет Абдул-Латиф задерживаться перед Джей-хуном: не тот характер, да и заповедь Тимура отлично известна его потомкам — используй время, когда ты сильней, не медли. Быстрота увеличивает силу! Расчет Улугбека, не вполне, может быть, осознанный, и состоял в надежде на то, что у Кеша сыну придется задержаться, помучиться, чтоб взять город, потерять время, а стало быть, силы и, не исключалось, сторонников. А тут на тебе: без боя вошел! А ведь Улугбек считал Камалиддина одним из верных себе людей… Раз уж эмир Камалиддин изменил ему, то кому теперь верить, на кого опереться? Что делать с остальными военачальниками?.. И опять пришли на память слова деда, сказанные однажды в Герате, в саду «Баги джахан». Султан Шахрух произнес что-то возвышенное о верности какого-то военачальника Тимуру Гурагану, на что последний ядовито засмеялся и ответствовал: «Эмиры преданы, когда меч в твоей руке намного длиннее и острее, чем у них. Держи их в страхе и не доверяйся им, сын! Преданность из страха иль преданность по разумному выбору — тебе какая в том разница? Из страха преданности достичь — это в твоих силах, а по разумному выбору — не от тебя зависит».
Улугбек не был с этим согласен… Раньше не был, а вот сейчас… Почти сорок лет он судит и рядит в Мавераннахре. Человечным стремился быть и с теми, между прочим, кто предавал его, кто за спиной козни чинил. Надвигалась беда, когда все решала сила, и что же? Где был их разумный выбор, этих эмиров? Чувствовали, что за ним сила, и оставались. Теперь почуяли силу молодого шакала и начинают перебегать к нему…
И что за напасть такая в последнее время — беда за бедой, неудача за неудачей. За что немилость судьбы? За море крови, пролитой дедом? Пусть аллах простит ему, внуку Тимура, такое кощунственное предположение, но ведь сказано пророком, что ничто не остается без возмездия в деяниях человеческих, особенно же кровь невинных. Только за что же его, внука, а не сына, не Шахруха, положим, карает небо?.. А внук так уж безгрешен,