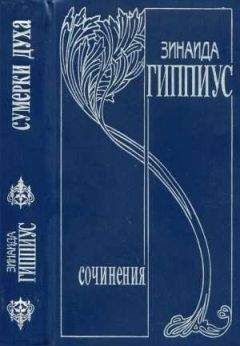Так дни замелькали, чередой шли и проходили.
Ничего не случилось, – да и что могло случиться? Случается только одно – проходит время. Плоско и неприметно текут его струи. Я требовал каких-то событий, я лез на них… Приставал к Лиде, хотел ощупать связывающую нас нить, крепче связать ее или разрезать… Пустое! Лида не понимала, о чем говорю я, чего хочу; для нее просто всякая нить сама собою сводится на нет. Все делается само собою, о чем же говорить? О чем заботиться?
Я мог бы пойти к Лиде, опять спрашивать, опять в чем-нибудь упрекать ее; тогда она вспомнила бы меня; даже, попроси я, она, вероятно, переехала бы и на мою квартиру. Но если я не пойду – она не вспомнит, не придет ко мне, и не по вражде, не по злобе, – а так. Просто. Просто себе ей не вспомнится. Не умеет она писать, не умеет говорить, ничего она не умеет делать, сама делать; с ней делается: это разница.
Я не пойду к Лиде, и тоже не по чему-нибудь такому, а оттого, что не могу: стал, как она. Тоже разлучился делать сам. Пусть и со мной «делается».
Прежде я говорил дерзко: «Я живу!» А надо со скромностью: «Мне живется». Если это конец, то конец простой, естественный, – без конца. В жизни все концы без концов.
Я говорил: подушка. Ну да, жизнь-то сама и есть подушка.
Теперь, когда я не барахтаюсь, она меня не так давит.
Удушенному не душно.
Не барахтаюсь. Скоро затих? Что ж, у меня было, значит, очень короткое дыханье.
…Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой – для низкого?
Ап. Павел. Рим. IX, 21.
Он так известен, что я не назову ни города, где он живет, ни специальности. Выдуманной фамилии тоже не хочется давать. Просто ученый, профессор. Далеко не старый, живой, веселый в обществе, с тихим, нежным голосом.
Мы с ним связаны еще университетским товариществом, а потом – длительной, спокойной дружбой, хотя никогда не жили в одном городе. В мою северную столицу он приезжает нечасто; но мне в голову бы не пришло проехать мимо того места, где он живет, не завернув к нему; и это случается почти каждый год. Анна Кирилловна, жена его, образованная энергичная женщина, очень к нему подходит. Она создала образцовое училище, так называемое «коммерческое», для детей обоего пола, очень самостоятельно и хорошо вела его. Летом ездила за границу, изучая постановку школьного дела во Франции и Англии. Анна Кирилловна казалась мне в одно и то же время и настоящим человеком, и настоящей матерью. Это так редко.
Своих детей у них трое – три сына.
Мы с профессором не переписывались. С прошлого Рождества не видались. И вдруг вчера вечером неожиданно встретились здесь, на берегах Невы, в знакомом доме.
К пожилой графине Марье Игнатьевне я часто теперь захожу. Тихо там, полутемно, и кажется, что это паутина печали, нависшая по углам, затеняет свет.
Графиня вяжет что-то длинное, грубое, серое, склонив прибор к лампе, вяжет и бледная Нидочка с испуганными глазами – все на войну. Саша, сын единственный, радость, ушел на войну. Бросил университет – ушел. И все в гостиной графини полно Сашей, войной и печалью.
Гостей не бывает. Разве зайдет посидеть, кроме меня, о. Владимир, седой, добрый священник, что неподалеку живет, крестил Сашу и Нидочку и старого графа хоронил.
В этот вечер он тоже пришел. А другой гость – мой профессор!
Мы от неожиданности как-то особенно обрадовались друг другу. Выяснилось, что профессор приехал «по делу», без конца хлопотал, уезжал, сегодня только опять вернулся, благополучно окончив «дело», а домой – через два дня.
– Завтра бы непременно был у тебя, – сказал, тихо усмехаясь, пощипывая черную бородку. – А раньше никак не мог. Такое уж «дело».
– Да какое же?
Марья Игнатьевна вздохнула, не поднимая головы, и о. Владимир вздохнул, и Нидочка вздохнула. О. Владимир сказал:
– Какие у нас теперь дела? Провожаем близких на великую войну, вот наши дела.
Я вдруг вспомнил. Смутно, однако слышал, что старший сын профессора, Костя, должен был держать какой-то экзамен на вольноопределяющегося… Были разговоры, но мельком, вскользь, давно, как о неважном. Я мало знал о детях профессора.
– Ах, Костя! Неужели Костю взяли? Ведь действительно ему теперь за двадцать…
– Что ты, милый, – ласково остановил меня профессор. – При чем Костя? Он уж полтора года казачьим офицером; а теперь пять месяцев на передовых позициях. Пока жив, здоров.
– Вот тебе на! Так неужели Волю?.. Да вздор, Воле пятнадцать лет…
– Шестнадцать, – поправил профессор. – Нет, Воля дома, занимается. Ваню я, младшего, устраивал. Ему тринадцать лет, оттого так и трудно было уладить. Уж я ко всякой протекции прибег. Пришлось самому в Варшаву везти. Правдами-неправдами приспособил его к знакомому одному офицеру. Удовольствия-то сколько!
Я слушал онемев. А Марья Игнатьевна стала даже улыбаться. Как будто ей легче было от того, что у профессора такое же горе, да еще тяжелее: два сына на войне, и даже тринадцать лет одному!
– Он – здоровый мальчик, большой, сильный! – продолжал профессор. – Сразу стал рваться. На Костю похож. Тот и до войны только о военной службе и мог думать.
Профессор говорил это со спокойной и тихой ясностью, как что-то совершенно естественное, давно обдуманное и понятное. А я, признаться, не опомнился. Надо было знать профессора и его жену, как я их знал; детей я, правда, не знал, но ведь это были их дети! И он сам повез ребенка… Что же Анна Кирилловна?
– Каково матери-то, – произнес о. Владимир, будто угадывая мои мысли. – Дитя молодое…
Профессор улыбнулся.
– Конечно. Но моя жена понимает, что есть непреложные законы жизни, недостаточно исследованные, навсегда, может быть, закрытые, но непобедимые, – законы истории и жизни.
Я заволновался.
– Постой, какие законы! Беззаконие, если хочешь. Чтобы не справиться с ребенком… Сам повез… Не понимаю.
– Да зачем же мне с ним справляться? У него было влекущее желание к определенному делу, так же как у Кости. К другим оба они совершенно не способны. Дело это сейчас очень нужное. Если Ваня слегка опоздал родиться – не его вина. Зато он очень развит физически, силен и смел.
– Великие, великие дела совершаются! – покачал головой о. Владимир.
– Позволь, – не унялся я. – Что значит «ни к чему другому не способен»? Учился, что ли, плохо? Это – твой сын? А средний, Воля?
– Воля – обыкновенный мальчик, хорошего ума и развития. А Костя и Ваня – подзаконные. Ты не понимаешь? Ну… не знаю, стоит ли об этом… Достаточно сказать, что из троих моих сыновей, в одних условиях и теми же людьми воспитанных, двое оказались к воспитанию невосприимчивыми, а средний шел обыкновенным путем. И Костя, и Ваня одинаково тупели от всякой книги, не интересовались ничем, кроме разве прикладных знаний. Типичные «последние ученики». Было бы глупой жестокостью ломать их. Это – закон природы, путь истории.
– Опять закон? Какие пути истории?
– Пути Господни неисповедимы, – покорно вставил о. Владимир.
А профессор неохотно сказал:
– Да, это – странный закон. Есть такие законы и пути, пожалуй, неисповедимые… И однако реальность их несомненна.
– Какой же закон, профессор? – бледно улыбнулась Марья Игнатьевна, подняв глаза от вязанья. – Я не совсем вас понимаю. Может быть, это слишком специально, и мы, непосвященные…
– О, вовсе нет! – вдруг оживился профессор. – Напротив, научно это почти еще необосновано. Вещь очень несложная: я вам дам ее в самом простом построении. Странный закон, о котором я говорю, это – закон приспособления человечества к исторической катастрофе, и, главное, соответственного приспособления гораздо раньше катастрофы, то есть как бы приготовленье к ней, совершенно природное, физическое. Природе известно будущее, неизвестное нам. Позвольте, я поясню: когда наступает война – вот сейчас например, – то оказывается, что главная масса народа, в возрасте именно 20–25 лет, состоит как раз из индивидуумов, наилучшим образом к этому делу приспособленных, на это дело годных и для него только и нужных. Германия – пример яркий, но спорный. Германию, при желании, можно так обернуть: германцы хотели войны и сами готовили ее в своих детях. Это конечно – поверхностный взгляд; я и не беру одну Германию, или даже одну эту войну; мы говорим о всем человечестве и обо всей истории. Да, сама история или кто-то, знающий ее будущее и пути народов, заготовляет в них, копит именно те силы, которые окажутся нужны; творит людей для будущей катастрофы…
– Постой, постой! – пытался я перебить, но профессор уже не слушал.
– Мои сыновья, Костя и Ваня, это – две капли того людского океана, который нужен был для сегодняшнего наводнения. Ваня опоздал немного родиться, но по качеству, по всему своему составу, он – именно эта океаническая капля; или сольется с другими, или даром высохнет. Так же и старший, Костя. Да оглянитесь вокруг себя, только внимательно: мало вы видите таких сейчас капель? Вспомните время перед войной, вспомните бесплодие, томленье, метанье молодых слоев Европы – и России, и России! И это – вне социальных разграничений, спуститесь куда угодно: вам незнакома разве надоевшая фраза: «хулиганство деревенской молодежи»? Искали причин в социальных условиях, а причина была одна, вечная, законная: готовилась великая борьба, но она еще не наступила, определенные силы не находили своего истинного приложения, не вошли в русло… И преобразились, едва вошли. Костя и Ваня – мои дети? Дети истории, дети времен ее прежде всего. Они родились не для меня, не для себя, а для той мировой борьбы, которая должна была неотвратимо наступить. Оба они, и большой Костя, и Ваня, опоздавший родиться, просияли, углубились, изменились, так счастливы были, те же слова повторяли: «Пойдем умирать за родину!» А средний, Воля, тихо смотрит, тихо говорит: «Мне жить придется после войны». Он в свое время родился, ни слишком рано, ни слишком поздно, родился для себя, для жизни после войны. Так оно есть… Таков странный закон человеческих судеб… И мне с ним бороться?