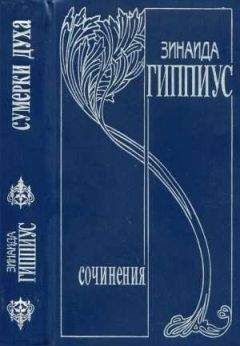Резко позвонили в передней. Ксаня вскочил, пошел отворять.
– Кто это к вам так поздно? – произнес Гриша. – Ну, а я пойду. Я завтра… До свиданья…
Юля не шевельнулась. Смуглое лицо ее стало розовым, и все розовело.
– Я завтра… – с нелепой настойчивостью повторил Гриша и двинулся к дверям.
В дверях почти столкнулся с гостем.
– Григорий Иванович! Уходите? А я, вот, поздно, – из театра. Я надеялся – чаек еще застану. Мое почтение, Юлия Павловна! Покапризничали, не поехали со мной нынче, а пьеса – любопытнейшая, скажу вам. Упился напоследок.
Гость был коренастый, розовый, довольно приятной наружности, инженер, Олимпий Ильич. Широкое лицо добродушно смеялось, и лысинка у него была добродушная.
– Самовар еще горячий, садитесь, – оживилась Юля. – Не знаю, что мама, кажется, легла. Да я вам налью. И сама выпью, не допила, по правде сказать.
Сели к столу, под лампу. Инженер приволок из передней пакет, – великолепные оказались фрукты.
Гриша ушел, а Ксаня, проводив его, так тихо вернулся в свой темный угол на диване, что о нем через пять минут забыли и сестра, и Олимпий Ильич.
Руками размахивал Олимпий Ильич, рассказывал о пьесе. Вкусно пил чай, макал туда беловатые усы и вытирал их тщательно. Юля улыбалась в рассеянном смущении, грушу чистила, молчала.
Вдруг Олимпий Ильич бросил болтать. Иным голосом, тише, сказал – и взял Юлю за руку у кисти:
– Ну что, милушка! Надумали? А?
Юля покраснела, руки не отняла, сдвинула брови.
– Что, право? – зажурчал Олймпий Ильич. – А как я вас лелеять-то стану! Все ваше будет. Надоело оно мне, мое да мое, на кой оно в одиночестве? Ведь так, зря привалило; русский человек не жаден, ему пожить хочется, да только чтобы по сердцу, чтобы с лаской, чтобы душа играла, и не одна, как перст… Прелесть моя, милушка, о чем загадывать? Не томите даром.
– Нажили шальные деньги, игрушку хотите купить? – криво усмехаясь и волнуясь, произнесла Юлия.
– Бросьте, дорогая, ведь уж говорили это, ведь не стоит, ей-Богу. Знаете вы всё лучше меня. Какой я соблазнитель! И вы не девочка, двадцать шесть лет, сами не скрываете. Будь я не женат… Да нет, врать не хочу; сдуру женился тогда, студентом, – и боюсь жениться; на разводе не настаиваю из-за этого, – спокойнее. Уж лет пять злую бабу свою не видал, теософкой сделалась, туда ей и дорога. А я привязчивый. До смертоубийства не влюблен в вас, опять не буду врать, а нравитесь вы мне смертельно. И жаль, пропадает в скуке этакая прелесть. Уж как мы поживем с вами! Что беречь. Не долга жизнь.
Он замолчал и снова:
– Про деньги мои сумасшедшие вы тоже знаете, я не вор, не какие-нибудь они такие. Всё у нас по-русски, все непомерно. Вдруг одному повалит, откуда, что? В струю попал. Ну и пользуйся, пока в другую не кинуло. Фальши я не люблю. Горит душа – или, клади за други твоя, жертвуй собой, и благо. А не горит, погасла, – так что ломаться? Вот вы чуть не год в фельдшерицах работали. Ушли же. Эх, не люблю я многословия! Попросту даже изящнее. А вы умница, все понимаете. Я вам не противен, тем довольствуюсь. На романтизм не надеюсь, где тут? Послезавтра и катнем. Меня и дела в этот Пер… Петроград (вот, до сих пор забываю), дела туда требуют. Катнем, милушка? А?
Глядел на нее нежно и весело, потянул ее руку к себе, поцеловал.
Юля тихонько освободила руку. Ей было досадно, стыдно за себя, за свои лишние слова, слабые, пустые. «Ведь ломаюсь, – честно призналась она себе. – Ведь решила…»
Решила, да, а молчит. Оцепенение слабости какой-то. И этого даже не может сделать прямо! Насколько он честнее…
Но Олимпий Ильич не требовал непременно слов. И так понял. Подвинул стул, обнял Юлю за плечи и что-то тихо, очень тихо, стал говорить ей. Потом оба встали. Не разнимая легкого, почти дружеского объятия, прошел Олимпий Ильич с Юлей в переднюю. И там еще что-то тихо говорили, долго, пока не хлопнула дверь.
Горела одна щека у Юли, розовые губы растерянно улыбались, когда она вошла обратно в столовую. И сразу встретились глаза с ясными-ясными глазами Ксани.
– Ты здесь? – испуганно крикнула она брату. – Ты был здесь? Все время?
И, не дожидаясь ответа:
– Как ты смел подслушивать, мальчишка! Как ты смел! Дрянь! Шпион! В углу притаился! Дрянь!
Не владела собой, задохнулась, оборвалась. Ксаня сказал серьезно:
– Да что ты… Не надо так. Я ведь понимаю.
– Понимаешь? – другим голосом, растерянно, проговорила Юля. – Что понимаешь? Я, может, сама не понимаю…
И опять резко:
– Ну да, и уеду, и пойду к нему на содержание, так хочу, и наплевать мне на всех вас, еще с мальчишкой разговаривать! Осуждать еще он будет! А побежишь жаловаться – беги! Я свободна и лгать сама не стану! Иду на содержание. Никаких грязных слов не боюсь, вот тебе!
Ксаня заморгал глазами. Сказал твердо, как взрослый:
– Нисколько я не осуждаю. Даже не думаю. И очень понимаю. Тебя, и Гришу, и всё вообще. Ты не беспокойся. Другое дело, как бы я сам… Но и Олимпий не виноват, и ты тоже, и Гриша… Я про вас с Гришей недавно стихи читал.
– Какие стихи? – недоуменно спросила Юля. – Ах, оставь, оставь, Боже мой! – Она села на диван, уронила голову на руки, утомленно. – Не дадут покоя, Господи! У меня в душе пусто, пусто, – ну вот точно совсем ничего нет!
– Я про это и читал, – заторопился Ксаня. – Я оттого и понимаю. Ты, Гриша, другие… Это глупости, что на «содержание», это все равно. Даже лучше тебе с Олимпием, чем с Гришей. И Грише с тобой ни к чему. Там знаешь как сказано? Постой, ты слушай, я сейчас, я хочу, чтобы ты не думала про осуждения или про что-нибудь… Я даже тебе помочь готов, если можно, как тебе лучше. И Грише, как ему лучше… Ты говоришь – пусто в душе. Вот точка в точку я и читал про вас: «В сердцах, восторженных когда-то, есть роковая пустота…»
– Что? Почему про нас? Про кого?
– Да как же: «Мы, дети страшных лет России, пути не помним своего…» – Или вроде, но очень же верно? и что «роковая пустота» – про них же, то есть про вас… Это я к тому, что понимаю, не осуждаю, ты сама не понимаешь, – а я понимаю… И…
Тут Ксанино лицо скривилось, губы выпятились, как у пятилетнего ребенка, и он заревел, не заплакал – именно заревел, утирая ладонями слезы:
– И только вот жалко… жалко мне… Зачем? Юличка… родинка… зачем тебе – «роковая пустота»? Жалко очень… Ужасно… И Гришу, и Олимпия… И тебя, Юличка.
Юля хотела засмеяться. Не засмеялась. Потом хотела прикрикнуть на брата, чтобы он бросил глупости. Не крик-нулось. Потом хотела вспомнить и сказать ему, как недавно себе говорила, что нельзя никого жалеть и не нужно – сохрани Бог! Но ничего не вспомнилось, не сказалось. Только глядела испуганно на ревущего Ксаню, и душа была закрыта крепко-накрепко, а в душе – такая пустота-Жалостно всхлипывал Ксаня, нисколько жалости не боялся. Жало ее для него не смертельно. Сын будущей, не прошлой России, – он открыто плакал о «рожденных в года глухие», о «не знающих своего пути», о них всех, маленьких, больших, – всех, всех…
…На «рю Дарю» слишком хорошо поют. Слишком! Ах, знаю, чего вы от меня ждете: начну сейчас вспоминать деревенскую церквушку на родине, да как я туда к Светлой заутрени ходил, да как талой землей пахло, а народ, в это время, со свечечками… Но у меня никаких подобных воспоминаний нет. В деревне я ранней весной не бывал, в церковь меня в детстве не водили, только в гимназии, в гимназическую; а там какая уж трогательность! Рос в городской, интеллигентно-обывательской семье и сам вышел интеллигентом-обывателем: всем интересовался – понемногу; в университете преимущественно политикой (в такой кружок попал), но тоже не до самозабвенья. Церковью и религиозными вопросами не интересовался никогда. На этот счет уж было установленное мнение, его мы и держались.
Кончил университет, надо было в военную школу идти, но тут как раз случилась революция, я и остался. И почему-то мы, т. е. я и некоторые из нашего кружка, очутились в левых эсерах. Главный был Гросман, а другие, особенно я, так, сбоку припека. После октября завертело, и вскоре я всех из виду потерял. Долго рассказывать, ну, словом, через год, или меньше, – я и сам не знал, кто я такой, не до левого уж эсерства, а просто чувствовал себя зайцем, которого травят и все равно затравят. Сидел подолгу и как-то, случайностью чистой, оказывался на улице. Но теперь знал: попаду в третий раз – кончено. А не попасть было нельзя: такое время наступило, что стали брать решительно всех и отовсюду, из домов, с улиц, с базара, из-под моста, из театра– значит, не скроешься. Я уж почти и не скрывался. Не жил, правда, нигде, – то на барке заночую, а то попросился раз к хозяйке знакомой, девицы у нее разбежались, – а ее еще не трогали. Во второй раз, впрочем, не пустила.
И завяз я в тоске. Такая тоска, и не она во мне, а именно я в ней сидел. Смотрю сквозь нее на все, как сквозь желатин, – и все мне омерзительно, и панель, и дома, и большевики… Хожу тоже как в густом желатине: ноги едва двигаются. Раз подумалось: это предсмертная тоска; верно, такая она и бывает.