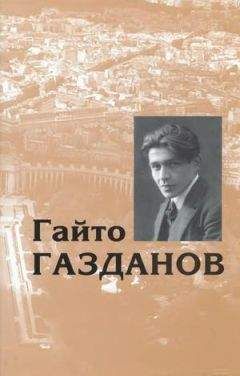И здесь же, не вставая из-за стола, на котором продолжали лежать приборы и тарелки с недоеденными кусками, Рикарди, глядя на трансваальский цветок, стал петь Элен вполголоса наивные и почти забытые им мелодии, которые он пел много лет тому назад. Обладая абсолютным слухом и чудовищной, почти нечеловеческой музыкальной памятью, Рикарди знал все, что слышал в своей жизни: он помнил наизусть любую оперу, любой мотив, он пел на пяти языках, и репертуар его был необычайно обширен. – Вот, Элен, – говорил он, – я спою тебе сейчас немецкий романс: в одном месте его, обрати на это внимание, вдруг начинает как будто струиться вода; это романс о русалке.
Элен слушала его, не отрывая глаз от его лица; ей и до сих пор его искусство казалось изумительным и неисчерпаемым. Она слышала Рикарди много раз и во всякой обстановке, но запас его музыкальных богатств был, действительно, настолько неистощим, что она находила всегда новые вещи, которых он еще не исполнял. Он пел ирландские песни, похожие одновременно на разговор и на плач, и русские романсы, про которые он говорил, что в них его голос теряется, точно проходя сквозь темноту и даль, и потом опять появляется, ослабевающий и прозрачный, как звон снега в сильный мороз, он пел английские мотивы, мотивы страны Элен, которые она слышала в детстве, пел французские рифмованные строки о женщинах и о любви и итальянские, удивительные по количеству голосовых изменений, арии.
Было уже очень поздно. – Ну, Элен, я спою тебе еще одно, – сказал Рикарди, – последнее: это французский романс, который я давно люблю.
– И он запел:
Plaisirs d'amour ne durent qu'un moment,
Chagrins d'amour durent toute la vie.
Элен неподвижно сидела на своем месте: трансваальский цветок стал расширяться и увеличиваться в ее глазах и закрыл собой изменившееся лицо Рикарди. Рикарди замолчал; и, видя, что Элен не начинает говорить, он сказал: – Элен, ведь я забыл самое главное: я спою тебе сейчас колыбельную, ты почти спишь. – Нет, – сказала Элен, – но я думаю: что я могла бы сказать после твоего пения и как? Мне сначала казалось, что я просто необразованна и не знаю нужных слов; а теперь мне кажется, что просто таких слов вообще нет. Но ведь пишут же музыкальные критики? – Они пишут глупости, Элен, – засмеявшись, ответил Рикарди, – ты гораздо лучше их понимаешь музыку. Ты хочешь, чтобы я отвез тебя домой? – Нет, – ответила Элен, – сэр Джордж (это было имя ее мужа) улетел в Лондон; не правда ли, как смешно, что он улетел, – точно злой волшебник из Андерсена? Я не хочу ехать домой. Ты мне будешь петь колыбельную, как ты обещал, – только совсем тихо. – Хорошо, – сказал Рикарди, – но только сэр Джордж не похож на волшебника: разве волшебники носят монокли?
Этой ночью Рикарди говорил Элен:
– Элен, ты чувствуешь движение времени? Смотри, я только что сказал эти слова, и их уже нет.
– Ты можешь их повторить.
– Да, Элен, но они будут другими. Ведь ушли не только слова, ушло то, что их вызвало к жизни; от него оторвался маленький кусочек, оно стало чуть-чуть меньше, почти незаметно, но этого кусочка уже нет. И то, что вызывает к жизни мои слова, все время уменьшается и делается тоньше. Элен, ты помнишь «La peau de chagrin»?
– Да, конечно: это очень печальная книга. – Элен, что бы ты сделала, если бы я умер?
– Я бы тоже умерла, – сказала Элен.
И Рикарди на несколько минут потерял сознание и дар речи – он видел перед собой в сумрачном рассвете, наступившем уже полчаса тому назад, только черные глаза Элен. Потом он, боясь сказать хотя бы одно слово, боясь, чтобы голос не изменил ему, взял руки Элен и стал петь с закрытым ртом колыбельную – и Элен заснула, как засыпают маленькие девочки, внезапно, не успев даже произнести то, что хотела. Рикарди вышел из спальни, принял холодную ванну и потом все сидел у окна, глядя на редкие автомобили, проезжавшие перед домом, и ни о чем не думая.
Он развернул потом телефонную книгу и нашел адрес профессора Вернана, знаменитого специалиста по накожным болезням; и днем он был уже у него. Профессор осмотрел его, взглянул затем с недоверием, как показалось Рикарди, на его костюм, – и сказал:
– Я ничего не могу сделать, я не знаю, чем вы больны. Обратитесь к специалисту по колониальным болезням.
– К кому именно? – спросил Рикарди.
– В Париже есть один способный доктор колониальной медицины, – но там вам придется ждать очереди недели две. Фамилия этого доктора – Грилье, вот его адрес.
– Грилье, доктор колониальной медицины? – думал Рикарди, едучи в автомобиле. – Грилье? Может быть, это его однофамилец?
Однако, приехав по указанному адресу, Рикарди нашел запертую квартиру. Он долго звонил: наконец ему открыла горничная, которая сказала, что прием закончен, – но что если m-r хочет записаться, то господин доктор сможет его принять в первых числах июня. – Нет, это меня не устраивает, – сказал Рикарди. – Вы знаете адрес его частной квартиры? – Нет, m-r, – сказала горничная так торопливо и заученно, что Рикарди сразу понял, что она знает. Он дал ей стофранковую бумажку и сказал: – Очень жаль, что вы не знаете адреса, очень жаль. Вот вам за беспокойство, благодарю вас. – И он уже стал спускаться по лестнице, когда горничная остановила его: – Мr Грилье живет в Нейи, – сказала она, – вот его точный адрес. Но если он спросит m-r, кто ему сообщил адрес, m-r будет настолько великодушен, что не назовет меня. – Да, да, не беспокойтесь, – сказал Рикарди. – Я хотела дать еще одно указание m-r, если m-r мне разрешит: господина доктора можно наверное застать только после двенадцати часов ночи. В другое время он в городе. – Благодарю вас, – сказал Рикарди.
В одиннадцать часов вечера Рикарди вышел из дому и отправился пешком в Нейи. Он уже обдумал к тому времени все: – Если Грилье скажет мне, что я действительно болен проказой, то тогда конец. Если нет – я буду лечиться от этой болезни, и все останется по-прежнему. Но если это действительно проказа?..
Он решил оставить доверенность на все свои деньги Элен, ликвидировать свои дела, написать Элен письмо и исчезнуть. Он только не знал – куда; но это он собирался решить позже. Он до сих пор еще не мог поверить в свою проказу: это казалось таким чудовищным и невероятным, и тот Рикарди; который был известен всему миру, настолько не мог стать прокаженным, – что он понимал эту мысль только теоретически, как понял бы ряд логических предпосылок и выводов, сущность которых была бы ему совершенно безразлична. Было уже больше двенадцати, когда он подошел к дому Грилье; и, еще не доходя несколько шагов, он услышал оттуда медленные и тихие звуки пианино, – да, ведь он занимался музыкой, – вспомнил Рикарди. Он открыл калитку железных решетчатых ворот, поднялся по трем ступенькам небольшого дома и тихо позвонил. Музыка тотчас же прекратилась – и голос Грилье спросил, кто там. – Это я, – ответил Рикарди. Грилье, конечно, не узнал его голоса, но открыл дверь, и Рикарди увидел его таким же, каким знал много лет тому назад. Он увидел курчавые волосы, худое и несколько удлиненное лицо Грилье и большие его глаза с неправильным разрезом, про которые Гильда говорила, что они похожи на венецианские окна, – и невольно это неточное и неправильное сравнение вспомнилось Рикарди потому, что он давно не думал о Грилье и ему нужно было сейчас найти что-либо такое, какую-нибудь личную и незначительную подробность прошлых времен, которая вновь воскресила бы в нем то полузабытое место в его жизни, которое занимал в ней Грилье – и в которое мысль его могла сразу вернуться, вспомнив и осветив на секунду какое-нибудь одно характерное представление. Бархатная куртка Грилье была расстегнута на груди, длинные руки были засунуты в карманы. – Что вам угодно? – спросил Грилье, не видевший, как следует, лица Рикарди, находившегося в тени. – Я – Рикарди, я пришел к вам по важному делу, Альберт, – сказал Рикарди. Грилье, не сказав ни слова, отступил, и Рикарди вошел в квартиру. – Что могло вас привести ко мне, откуда вы узнали мой адрес? И что нужно знаменитому Рикарди от доктора колониальной медицины? – Грилье говорил насмешливо и враждебно. – Альберт, – сказал Рикарди таким измененным голосом, что Грилье поднял голову и взглянул на Рикарди с удивлением и тревогой, – мне кажется, что я болен проказой, и я пришел узнать ваш приговор. – Они находились в квадратной комнате, стены которой были обиты материей цвета grisperle[85] без каких бы то ни было узоров; посредине стоял черный лакированный стол, у одной из стен – черный же диван; прямо перед своими глазами Рикарди увидел довольно хорошую копию рембрандтовских пилигримов, принесших с собой и сюда тот далекий и слабеющий полумрак картины, о котором Рикарди в свое время, учеником консерватории, написал несколько десятков очень плохих стихотворений. – Я сейчас буду к вашим услугам, – сказал Грилье. Он вышел из комнаты, затем вернулся – на нем были белый халат и резиновые перчатки. Он поставил на стол небольшую металлическую коробку, от которой шел электрический шнур, – он вставил его в штепсель, – потом, вынув из этой коробки длинный стальной инструмент с загнутым концом и быстро взглянув на лицо Рикарди, взял его руку и приложил конец инструмента к немного опухшему суставу пальца. – Что вы чувствуете? – спросил он. – Ничего, – ответил Рикарди. Грилье осмотрел пятна возле его бровей. Рикарди с тревогой следил за его лицом. Затем Грилье, отвернувшись, сказал: