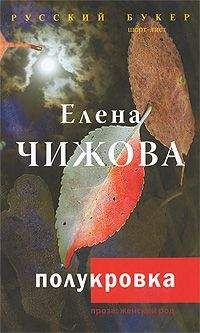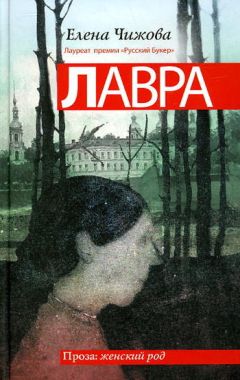"Знаете, - я сказала твердым голосом, - наверное, найдется много людей, кто позавидует вашему здравому смыслу, но лично я вижу во всем этом один психический изъян. Добро бы вы были иностранцем, - кружевные кардинальские мантии всплыли весьма кстати, - но для человека, жизнь прожившего здесь, где не только учреждения, но и люди людям - рознь!" - "Понимаю, я кажусь вам человеком старым, пусть так, по сравнению с вами, но, поверьте, иностранцы ни при чем, люди везде люди. Когда человек один - ему всегда страшно на свете. Что касается организаций, КГБ - не мироздание, мироздание - это когда письмо, написанное, но не отправленное в сорок первом, приходит через тридцать лет, когда написавший давно уже сгнил в Синявинских болотах... Вот это дошедшее письмо - мироздание... Прощайте, - он поднялся легко, - мне приятно было..."
Я не ответила. Что-то мешало моей ответной вежливости, к которой располагали его последние, болотные слова. В них крылось что-то тревожное, относящееся ко мне. Помедлив, я поднялась. Бумажка, сложенная острыми уголками, царапнула ладонь. "Ладно, - я сказала, угрожая, - сейчас посмотрим, какое такое мироздание..." Присев на край скамейки, словно собиралась налепить, я опустила руку и, шевельнув пальцами, швырнула треугольник в самую глубину. Если этот, здравомыслящий, прав, мне оставалось подождать каких-нибудь тридцать лет.
Выбравшись из метро, я пошла к автомату. Здесь, на поверхности земли, страх отпускал. Набирая номер, я ругала себя: "Беда! Какая беда! При чем здесь...Надо же!" Приложив ухо к трубке, я дожидалась настойчиво. Звонки неслись один за другим. С той стороны, в Митиной квартире, никто не поднял трубки. Дома я дождалась позднего вечера и повторила попытку. Весь следующий день, не сдаваясь, я набирала номер. Теперь мне оставалось единственное: положившись на сложенный треугольник, дожидаться Митиного звонка.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Телефон звонил непрестанно. Я бросалась к трубке и всякий раз обманывалась в ожиданиях. То из канцелярии Академии требовали мужа, то из Москвы торопили с документами. Попадались и вовсе неопределимые, тихие и тревожные. Такие не признавались. Голоса выматывали и терзали. Ночью, когда наступало затишье, я поминала бродячего проповедника и видела себя состарившейся у телефона.
После похорон муж все чаще оставался ночевать в Академии. Он объяснял неотложными делами, требующими едва ли не круглосуточного присутствия. В рабочий кабинет доставили диван и задвинули в угол. Мелкие безделушки, привычно украшавшие домашний письменный стол, исчезали бесследно. Я думала, относя их в Академию, он приноравливается к новому жилью.
В эфемерной ночной тишине я крутила пленку с речью Николая, и чем дальше, тем крепче моим сознанием завладевала мысль о том, что невосполнимая потеря, которая на нас обрушилась, ударила по нему всего сильнее. В отсутствие иных свидетельств я могла судить единственно по голосу, и этот голос, к черновым интонациям которого я успела за несколько лет привыкнуть, свидетельствовал о том, что теперь, положенный начисто, он претерпел мгновенное, но существенное изменение. Прежде, вслушиваясь в интонацию, выводившую - друг подле друга библейские выражения и жесткие обороты речи, я представляла себе нового Гамлета, выступившего из круга друзей - отомстить за погубленного отца. Тот принц, не чающий королевского престола, глядел на трон почти равнодушным взглядом, всерьез не помышляя о том, что рано или поздно этот трон станет его седалищем. В пьесе, разыгранной на современных подмостках, между ним и троном стоял возлюбленный духовный отец, которому, по высшей справедливости, должно было достаться и патриаршество, и отмщение. Надежда на отмщение крылась в самой возможности преодоления духовным отцом всех ступеней иерархии. Победительное отмщение: подняться и встать вопреки всему. Всего накопилось с лихвой: больное сердце, непримиримые отношения с ортодоксальным епископатом, с одной стороны, и радикальными церковными диссидентами, с другой. Преодолеть могло только чудо, но короткое время, которое закончилось со смертью владыки, давало простор самым смелым ожиданиям. Согласие Ватикана вести переговоры именно с покойным Никодимом обнажало истинную иерархию, рядом с которой действительное положение дел должно было стушеваться.
Я не знаю и не могу знать, так ли думал владыка Николай, однако он, человек тридцати с небольшим лет от роду, конечно, не мог не понимать, что в отсутствие своего духовного отца он лишается роли принца, по крайней мере принца наследного. Если ему когда-нибудь и удастся взойти, это восхождение случится совсем на иных путях, а потому теперь, когда духовный отец был погублен, в голосе названого сына не звучало прежней, почти безоглядной и, уж во всяком случае, трагической решимости, когда, преодолевая страх, точнее, не позволяя себе за себя бояться, он беспокоился и боялся за того, чей дух, запертый в теле, обладал всеми свойствами необходимой и достаточной стойкости. Теперь, лишенный благотворного страха за другого, он стоял по видимости неколебимо, но в этот надгробный миг, к которому относились произносимые слова, в нем качались, уравновешивая друг друга, две чаши весов, на одной из которых лежали проглоченные частицы за убитых, на другой - за убийц. Это я слышала в его нарастающем голосе, и, перематывая пленку раз за разом, думала о том, что на всё ему вряд ли достанет сил.
Предоставленная себе и тревожным ожиданиям, я прислушивалась к голосу, страдавшему над закрытым гробом. Вряд ли приводя резонные доводы, я размышляла о том, что рано или поздно придет конец и другой эпохе - долгому сроку, который начался решением Совета по делам религий, предпочетшего патриарха Пимена. Это решение пришлось на 1971 год, и, вспоминая Митин кружок 60-х, за который его чуть было не выгнали из университета, но по какому-то стечению обстоятельств (здесь, так и не решившись спросить Митю, я ничего не знала наверное) пощадили и даже выпустили за границу, я думала о том, что это решение было принято позже первого дня десятилетия, с которым я, чаявшая единения Церковного Бога и Гражданской Свободы, связывала рухнувшие нынче надежды. "Пощадили и выпустили", - чувствуя подступающую тревогу, я отогнала. Огораживаясь от предчувствия надвинувшейся беды, я раздумывала о судьбах церкви. Может быть, суеверно надеясь на то, что, сумей я преодолеть ужас, словно птица, чертящая крыльями, я отведу охотника от гнезда.
Тогда, в 1971 году - в день восшествия нового патриарха - это решение было воспринято как неудача: сторонники владыки Никодима надеялись до последнего. Однако неудача лишь подливала масла в огонь, потому что по правилу абсурдного, а значит, единственно правильного ожидания это решение не могло быть признано окончательным. То время я помнила по рассказам. Те, к кому я прислушивалась, рассказывали о вспыхивавшей надежде, никак не связанной с действительными событиями. Запоздало я разделяла их надежды и ожидания, потому что теперь, вопреки изменившемуся голосу владыки Николая, я тоже - втайне - надеялась. Я надеялась на чудо, которое случается время от времени - случилось же тогда, когда они пощадили Митю.
Вряд ли в свои двадцать пять лет я могла рассуждать по-настоящему, да, пожалуй, не одна только я. Ни у кого из нас, живших в те годы, не было опыта революционной смены иерархической структуры, кажущейся незыблемой. Как абсурдную мы отмели бы мысль о том, что - при всей благотворности внешних, диссидентских раскачиваний - крах ороговевшей системы наступает только тогда, когда на верхнюю ступень иерархии восходит человек, прошедший ее от самого низа, но не желающий мириться с ее губительной косностью. Моим сегодняшним голосом, усталым и сломленным, я утверждаю, что, сложись все иначе, рядом со светским реформатором стоял бы реформатор церковный - равновеликий в своем историческом порыве, и гибнущая имперская сила нашла бы достойного союзника в гибнущей силе церковного абсолютизма. Иногда я думаю о том, что такой сценарий нельзя назвать невозможным. В конце концов, владыка Никодим умер, не дожив до пятидесяти лет.
Новый телефонный звонок прервал мои размышления, и голос мужа, звучавший особенно устало, предупредил, что снова остается ночевать в Академии, завтра к девяти, ехать нет сил. Я спросила о самочувствии владыки Николая, и муж, помявшись, сказал, ничего. Я уже собралась повесить трубку, когда он, совершенно неожиданно, продолжил: "Вот, сидим с Глебом, разговариваем, что-то будет дальше..." Я положила трубку и поняла, что в сегодняшней ночной беседе речь идет о будущем назначении на вдовствующую кафедру, Ленинградскую и Новгородскую. Только теперь, осознав эту близкую перспективу, я почувствовала, что события, начинавшиеся исподволь, со смертью владыки обретают новый импульс, проще говоря, начинают стремительно развиваться. С отбытием последних католических гостей мы вступали в полосу консультаций, которые, как я, хоть и не вполне ясно, представляла, должны были закончиться одним из двух: либо, при определенных выполненных условиях, возведением владыки Николая, либо - его почетной ссылкой. Единственным заступником мог стать владыка Ювеналий, по обещающей прихоти природы и внешне похожий на Никодима, которого он, незадолго до римской трагедии, сменил на посту главы Отдела внешних церковных сношений. О ссылке думать не хотелось. Словно разбуженная звонком, я шагала взад и вперед по комнате, подбирая благоприятный аналог. В мыслях, сменяя друг друга, мелькали имена, однако в аналоги не подходило ни одно. Бродя вокруг да около, я оставалась под омофором Русской православной церкви, пока что-то, идущее по обочине, блеснуло зеленоватым лучом, и, приглядевшись, я увидела высокую фигуру, увенчанную невиданным по красоте головным убором, похожим на клобук, на переднем скате которого сиял огромный изумруд. Засмеявшись, я вспомнила рассказ мужа: в парижском аэропорту он наблюдал воочию, как Илия, католикос всей Грузии, в то время еще недавно избранный, спускался - в полном облачении - по внутреннему эскалатору, сияя вправленным в патриарший убор небывалым изумрудом, и видавшие виды пассажиры, движущиеся навстречу, не удостаивали его ни малейшим любопытством.