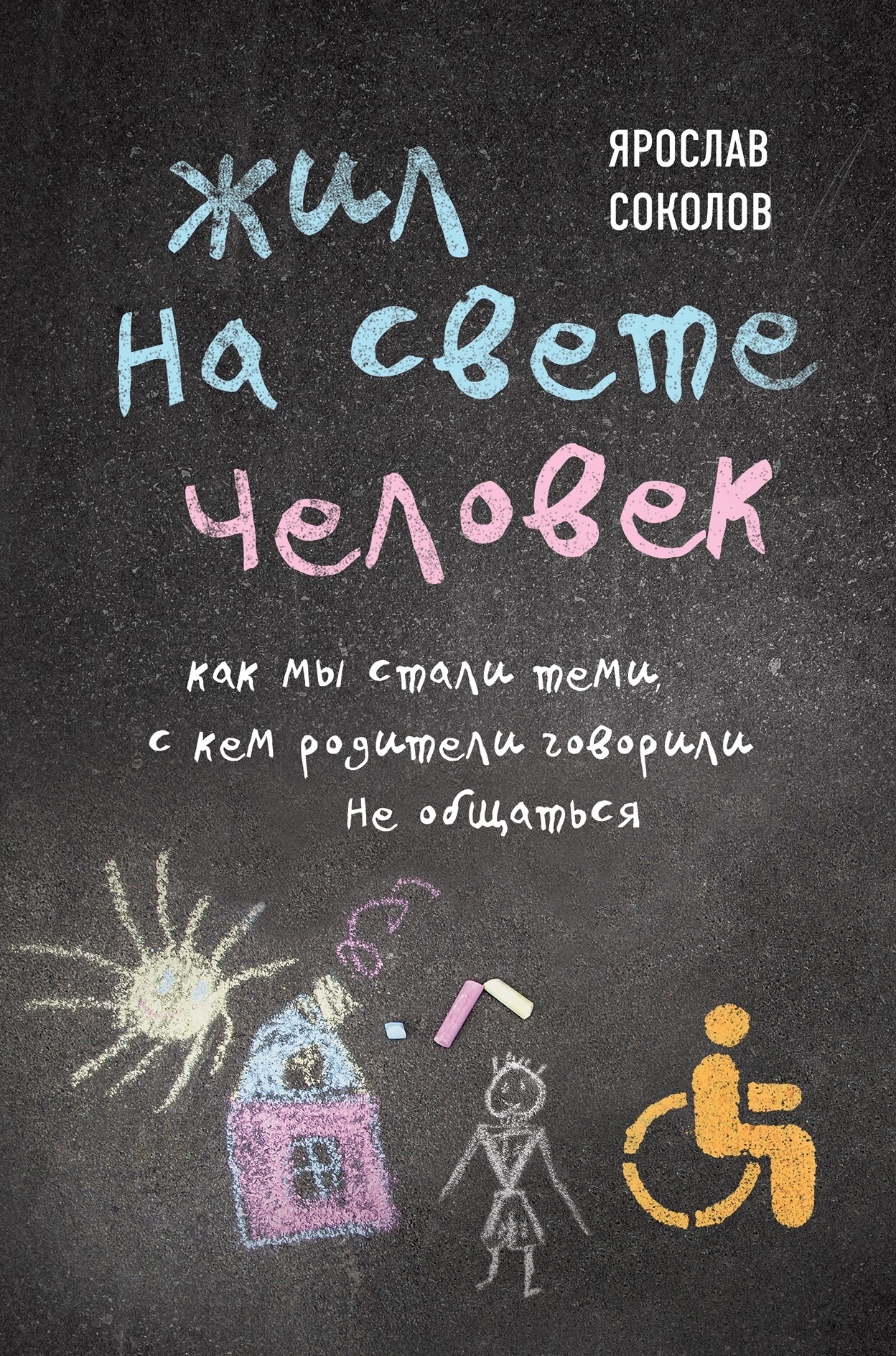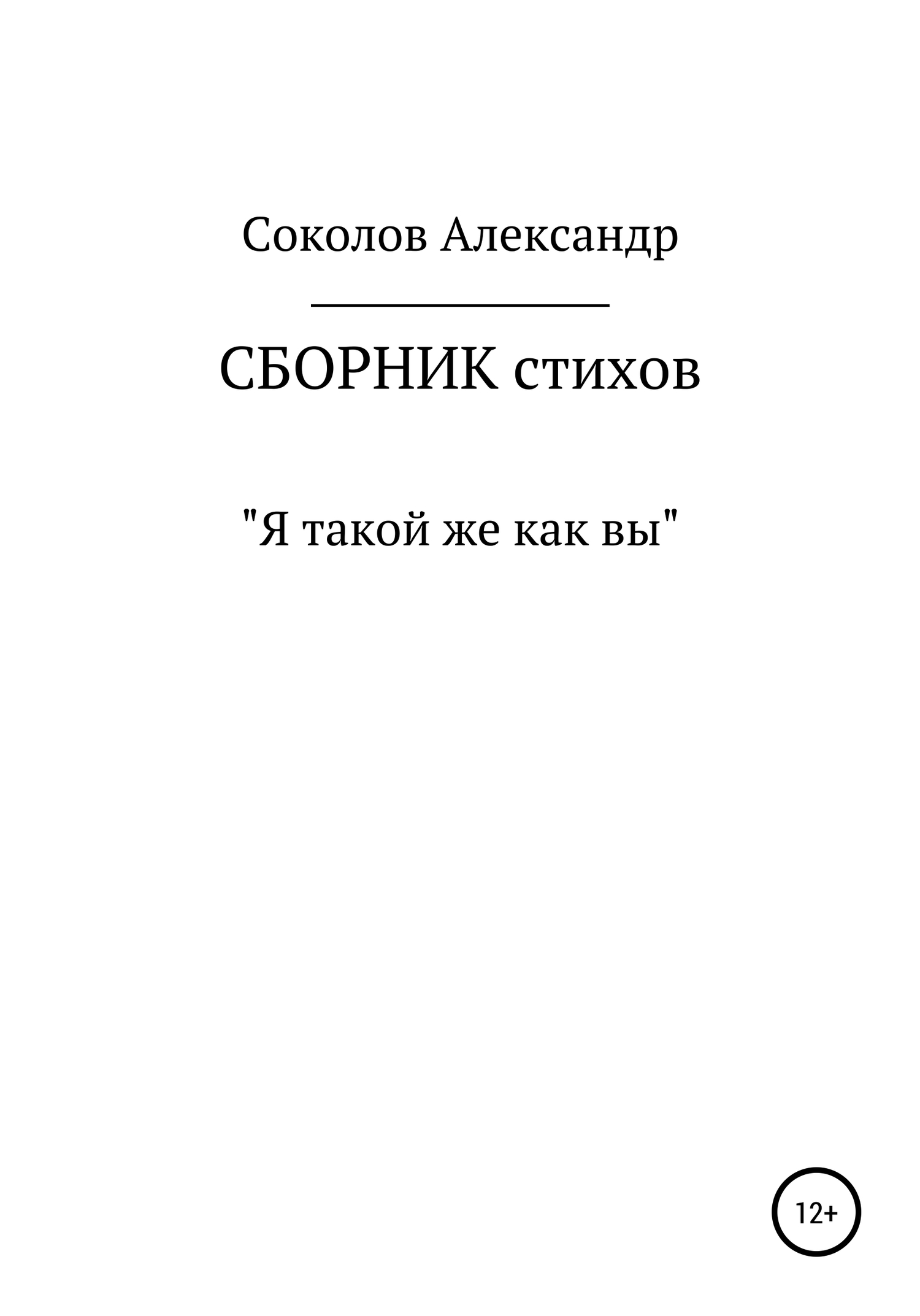завались, самим все не съесть, так что Коля разбирал урожай по пакетам и развешивал по всему забору снаружи – берите кто хотите. А вот саженцы смородины продавал, новый сорт все же. Ну и всех родных и знакомых задаривал, понятно. Я в садоводстве не особо разбираюсь, человек сугубо городской, но к ягоде Коля со временем пристрастил, научил и обрезать правильно, и даже вино домашнее ставить. Думаю, вы уже поняли, что с того вечера, когда мы с Николаем расставили все точки, я постепенно переехала жить к нему за город, выбираясь в Москву лишь проведать сына и помочь с внучкой.
Сын поначалу довольно резко отреагировал на мое решение вернуться к Николаю, говорил: „Он не заслуживает твоего прощения. И твоей любви. Он тебя предал, и Бог его наказал. Вот и все“.
Я понимала, что в нем говорит обида не только за меня – себя он тоже считал преданным.
Не знаю, смог ли он в конце концов простить Николая, но постарался понять меня и принял мое решение. Их отношения с Николаем теперь стали ровными, Сашка никогда не дерзил и не обвинял его ни в чем. Лишь однажды я случайно услышала их мужской разговор по душам, обрывок Колиной фразы: „Маша – это самое дорогое и самое важное, что случилось в моей жизни. И я хотел бы умереть у нее на руках, это единственное прощение для меня“.
Когда Николай сносно себя чувствовал, Саша позволял мне надолго оставлять у себя внучку Ирочку, с пяти лет она часто гостила у нас на даче. Больше всего малышка полюбила встречать здесь свой день рождения, 15 мая, в первую очередь – из-за подарков деда. Каждый год Николай специально для нее высаживал перед домом новый сорт ирисов, тщательно следил, чтобы цветы, названные в честь древнегреческой богини радуги, распустились вовремя. Счастью Ирочки, когда ее знакомили с новым другом, не было границ, солнечные лучики ее радости согревали нас потом все лето. Ни одного цветка при этом она не срывала, после чая с тортом и смородиновым вареньем тащила к клумбе свою маленькую табуретку, большой альбом и рисовала, рисовала, рисовала. Новый удивительный цветок, радугу или саму богиню Ириду [69]. „Пошла на пленэр“ – так это у нас называлось.
Спустя три года после операции и всех курсов химии и облучения анализы Николая были чистыми, онкомаркеры не обнаруживались, как будто рака не было и в помине. Николай неожиданно забросил свою любимую смородину и загорелся разведением роз. А когда кусты заалели пышным цветением, подвел меня к ним и сделал предложение руки и сердца.
– Ты – это все, что мне нужно в жизни, – сказал он. – И на самом деле так было всегда. Спасибо, что я успел это понять.
Мы были счастливы. Еще целых семь лет на внучкиной клумбе расцветали в мае новые ирисы – желтые, голубые, белые, фиолетовые. Разрастались розовые кусты. Зрели на веранде смородиновое вино и яблочный сидр. А потом рак вернулся. И уже не выпускал из своих клешней. Теперь он был не в пример более агрессивным, метастазы появились прежде всего в почках и печени, потом и в мозге. Ответа на химию организм практически не давал. Быстро прогрессировала боль, становясь нестерпимой, дальше пошли наркотики, без которых прежде вполне обходились…
Надежды больше не оставалось никакой. Когда к горлу подступало отчаяние, я отвозила Колю в местную деревенскую церковь, он долго молился там и ставил свечку Николаю Чудотворцу. Мне молитвы не помогали, может, из-за того, что с детства никогда не умела этого делать. А вот к Коле, как мне казалось, приходило какое-то облегчение. Но чуда, увы, не случилось. Он сгорел за какие-то три месяца и умер, как мечтал – на моих руках.
Я вернулась в московскую квартиру, подумывала даже, не продать ли участок – слишком уж больно было там находиться, – но сын строго-настрого запретил. „Ты что, мам, там же Иркины клумбы и смородиновый сад, такая память“. И то верно. Впрочем, садом я теперь практически не занималась, кусты стали чахнуть и урожая давали мало. Хотя на даче я бывала регулярно – вывозила внучку летом из города, на чистый воздух. А вот Колин племянник Лешка увлекся виноделием и за пять лет восстановил на маминых сотках смородину, подаренную ей в свое время Николаем. Я раз пробовала его вино, у него очень вкусное получилось, легкое и в меру сладкое. Но мне почему-то больше нравилось то, которое Коля ставил. Густое и терпкое».
Никогда в жизни – ни прежде, ни потом – я не испытывал такой неудержимой паники и такого всепоглощающего ужаса, как в тот день, когда у меня выявили злокачественную опухоль желудка. Наследственность у меня, прямо сказать, хреновая – и дед, и отец умерли от рака, поэтому и моя судьба, казалось, была предопределена с самого рождения. Теоретически я всегда ожидал чего-то подобного. Теоретически. Но даже представить себе не мог, что это известие меня так ошарашит, полностью парализует мозги.
Когда-то давно, еще в школьные годы, на Домбае нас с отцом чуть было не накрыло лавиной. А вот наши друзья, тоже родители с пацаном, погибли в тот день. И это был мой самый частый и самый жуткий детский кошмар, повторявшийся через годы: я был тем мальчиком, я задыхался в ледяном крошеве, волочившем комок из моих рук, ног и лыж в пропасть. Это же самое ощущение не покидало в те дни, когда меня наяву с головой накрыла колючая лавина паники. Никакие техники медитации и пранаямы [70] не помогали успокоиться и начать мыслить здраво. Я вообще не понимал, что мне теперь делать и куда кидаться.
Единственным человеком, которому удалось буквально за уши вытащить меня из глубин этой прострации и вернуть к реальности, оказалась Анька, моя бывшая жена. Мы развелись уже два года как, но оставались настоящими друзьями, без затаенных обид и прочих камней за пазухой. Да, такое тоже бывает. Так вот, Аня мне тогда сказала: «Мишка тебя никогда не простит, если ты сейчас сдашься и тупо сдохнешь. Если ты его бросишь. Вытри уже сопли и ищи, какие еще есть варианты». Мишка – это наш сын, на тот момент ему исполнилось девять. И я действительно был ему нужен. Ну там своя история, но сейчас не об этом.
«Тебе легко говорить», – чуть было не брякнул я сдуру. Говорю же – мозги совсем