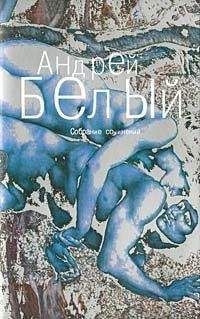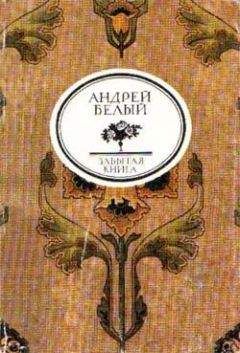А у потухшего фонаря старик прохожий, молча смотревший на меня, казалось, проливал из глаз потоки жалости и скорби, но разве это касалось меня… Я продолжал напевать:
Часы неизменно бегут,
Бегут и минуты считают…
О бег перекрестных минут!..
Так медленно гроб забивают…
Прямо передо мной высились огромные серые дома с бесчисленными четырехугольными глазами, мерцавшими темным бредом… И когда я остановился перед ними с немой мольбою, то глаза мои наполнились слезами, неизвестно почему, а разгоравшийся рассвет засверкал <?> на оконных стеклах, и они тоже заблестели, словно наполнились слезами.
* * *
На другой день я встал поздно, так поздно, что уже солнце начинало склоняться к западу, хотя еще пекло и пыль продолжала садиться на бегущих прохожих… Еще сегодня утром, вернувшись домой из гостей, я поднял спавшего человека и приказал ему доставить к сегодняшнему дню роскошный обед с питьем и яствами. Я сообщил ему, что у меня будут дорогие гости, и он удивился, потому что ко мне редко кто заходил и никто мне не был дорог…
Я забыл ее… Я уже не нуждался в ее любви, я, кажется, нашел самого себя, [согласно предписанию Ницше]. Если бы она сама обратила ко мне свой ласковый взор, не то грустный, не то удивленный, с неизменной улыбкой на [коралловых] устах, я бы ответил с насмешливым хохотом… Я забыл ее и уже не искал приветов ее, посылаемых мне из дали, ни на небе, ни вокруг себя… Уже и так я полысел от нервной лихорадки за эти семь месяцев, уже и так лицо мое было мертвенно от внутренних восторгов и отчаяния… Довольно… Теперь я свободен от нее… Я нашел самого себя…
Я даже нарочно пошел гулять вдоль улиц в час, когда она возвращалась с гулянья, чтобы сделать презрительную гримасу, когда она посмотрит на меня; но она пролетела мимо, меня не заметив, потому что смотрела прямо перед собой — вся в бледно-голубом…
Тем лучше…
Не остановился я и перед тщедушным товарищем своим, который наскоро мне сообщил, что против каждой церкви теперь начали строить дома в новом стиле, чтобы оттуда обстреливать церкви мистическими зарядами ужасов и выпускать тучи наваждений. Он рассчитывал испугать меня, как всегда, но я едва расслышал, что он мне сказал, простился и сейчас же пошел в магазин за фруктами и дорогим мне шампанским… Если б он знал, для кого я все это покупал, он ужаснулся бы в свою очередь…
Но я не люблю пугать…
Нагруженный покупками, я вернулся домой; глаза мои блестели, непривычный румянец горел на щеках… Я надел свой новый сюртук и выложил на рояль все лучшие ноты, какие у меня были… Я и слуге своему приказал надеть белый галстух и чистые перчатки…
Все было готово для принятия дорогих гостей, а в ожидании я наигрывал и напевал из Шубертовых романсов: «Still ist die Nacht»…
И вот позвонили… Но почему-то слуга ничего не слышал, и я сам побежал отпирать, радостно сияя; я быстро снял с него желтое пальто и поставил крючковатую палку. И вот мы стояли друг перед другом, как два отражения самих себя, — оба рассматривая себя серо-синими глазами, оба с одинаковыми белокурыми усами, в тех же сюртуках… О счастье, о вечность!..
Мы нашли друг друга…
Только он был бесконечно прекраснее меня; и очи его были глубже, потому что хоть и был он мною, но обитал в вечности, я же был случайным отражением его, и он делал честь мне своим нежданным посещением…
И я пожимал свои собственные руки, руки «его», говоря: «Привет вам, дорогой посетитель!.. Добро пожаловать»…
И мы сидели за обедом, и нам прислуживал слуга в белом галстухе и в чистых перчатках, бесстрастный и спокойный, ничему не удивляющийся… В наших бокалах искрилось дорогое шампанское вечным закатным золотом, и небо, пьяно смеясь, было тоже золотое на закате… И мы говорили тосты друг другу, и понимали друг друга, и нам не нужно было выходить из оболочек, потому что оба мы были одинаковы… Только он во всем превосходил меня, потому что обитал в Вечности… Я нашел самого себя…
Говорят, что увидеть двойника — страшно, страшнее всего… Но это только предрассудки. Страшно ожидать его, когда он бродит где-нибудь в окрестности, но раз он приблизится, перейдет известную черту, весь страх пропадет, и его сменит восторг…
О, братья!
О, братья! Нет ничего восхитительнее, <чем> любоваться самим собой, сидеть перед самим собою и медленно глотать искристое, золотое шампанское… И невольная грусть, и невозможная нежность туманит взор, и весь мир становится <?> вдруг таким близким и понятным… И свежий ветерок, втекая в комнаты из раскрытого балкона, нашептывает такие дивные сказки, качая пряди волос…
Я сел за рояль и потряс комнату могучим аккордом, и рояль дрожала под моими пальцами. И я пел, глядя на своего двойника; он задумчиво поднес к устам своим бокал шампанского и не пил, но созерцал золотую закатную влагу…
На закате было пролито золотое вино, и вот оно тухло.
Я пел:
Как сла-адка-а с та-або-ою-ю мне бы-ыть
И молча ду-ушо-ой погружа-а-аться
В лазурные очи твои.
Всю пылкость, все стра-асти души…
Так сильно они выража-ают,
Как слово не выразит их,
И сердце трепеще-ет нево-о-ольно
При виде… тебя…
На закате по золоту протянулись узко-багряные полоски вспыхнувшим облачком, и ветерок пел нам неведомые вздохи, и опьяняющее настоящее было так прекрасно, что я забыл весь мир… И мы смеялись в лицо друг другу и понимали «все»…Но если бы посторонний заглянул сюда и увидел одного и того же, игравшего на рояли и сидевшего с бокалом шампанского, он ужаснулся бы, ожидая громов… Но небо было чисто и безоблачно, и высоко над домами реял неподвижный коршун, то взмахивая крылами, то застывая в винном золоте…
И я пел:
Лю-юблю-ю я-я сма-атреть на тебя-я…
Ка-ак мно-ого в улыбке отра-а-а-ады
И неги в движеньях тва-аих…
На-апра-асна-а хочу заглушить
Порывы душевных валне-ений
И се-ердце рассудко-ом уня-ять…
Не слуша-ает сердце-е рассу-у-у-удка
При виде… тебя…
Золотое вино потухло в сгустках багреца. Его лицо просияло и казалось серебристо-белым, его губы были как кровь, а глаза, глаза были бледно-голубые, чистые, как то небо, которое смеялось над закатом… И на небе была вечная улыбка, «ее» улыбка, и она отражалась в глазах двойника, смотревшего на небо: у него были «ее» глаза.
А я пел:
Нежда-анною, чу-удной зве-ездой
Явился двойник предо мною…
И жизнь осветилась моя…
Сия-яй же, указывай путь…
И он сиял своим серебристо-белым лицом. И тут я встал и протягивал руки двойнику, задумчиво впившемуся очами в голубую бесконечность. Я схватил розы, стоявшие в стакане на столе, и бросил их в своего двойника, а пролетавшие ласточки взвизгнули так близко от нас, пролетая над балконом…
Веди к непривычному сча-а-а-астью
Того, кто наде-ежды не знал…
И се-ердце-е уто-онет в васто-о-о-орге-е
При виде… тебя…
Я объяснял ему, что любил мою бледно-голубую красавицу, что любовь моя была такая чистая и такая сильная, что она вырастала выше мира, была нежнее вздоха эоловой арфы. Но я не умел применить мою любовь к делу <?>, я не знал, что с ней делать… А она вырастала до Вечности… И уже во всем я видел ее — мою бледно-голубую красавицу… Она преображала меня всего, но я не знал, к чему я преображался, [во что]…
Я объяснял ему, что «она» не любила меня, что и я не любил ее… Что я люблю только его, двойника, — себя самого, потому что «я» — один в мире и «сам» составляю мир…
Я не помню, что я говорил… и что было вообще в этот вечер, потому что я был пьян, помню только, что мне «все» открылось [и уже не было тайн от меня…] Точно сквозь сон припоминаю, как мы стояли с двойником на балконе над заснувшей улицей… Над домами кротко светили розовые, зоревые огоньки, а на бледно-голубом была «ее» улыбка, «ее» вечная ласка, не то вопрос, не то признание…
Кротко горела серебристая звездочка… И розы на двойнике, Бог весть откуда взявшиеся, были снежно-серебристые, а на голове мерцал ослепительный венок красных неведомых цветов… чуть-чуть страшных…
Я спросил его, что это за цветы, и он мне ответил, что это цветы кактуса.
Он стоял на вечерней зоре над спящим городом, простирал свои руки зоре и смеялся на «ее» привет… Он «тоже» любил ее… Он был то же, что и я… значит, и я… значит, и я любил?..
Она думала о нас… Обо мне или о моем двойнике… Вернее, о моем двойнике, обитающем в Вечности… Но думала не она, а ее двойник, обитающий в Вечности… Ее синие очи были грустны и сияли бледно-голубой бесконечностью… Она смотрела немного удивленно, полусмеясь… Оттого-то выступили такие чистые зори у горизонта, а ее гнев убегал синевато-черным одиноким дымовым клочком…