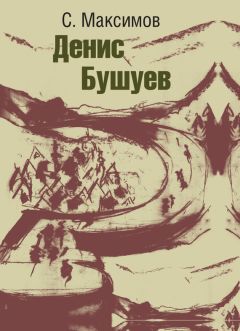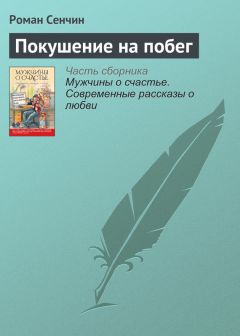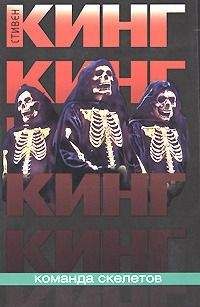Берг секунду молчал и пристально смотрел на него и вдруг расхохотался.
– Ах-ха-ха… Моральный урод. А об обиде-то вы забываете!
– О какой обиде?
– Ну… об этой, об обиде, когда у одного человека что-то есть, а у другого нет…
– Так это зависть, а не обида…
– Нет! – крикнул Берг. – Это именно обида! Жгучая, невыносимая обида… И почему, почему горбун – моральный урод?
– Как почему? – удивился Бушуев. – Потому что он людей убил… тысячи людей.
– Ага! – торжествующе сказал Берг. – Так ведь он ради идеи убил их!
– Да пошел он к чёрту со своей дурацкой идеей! – рассердился Бушуев. – Мне из его идеи не платки шить для слез матерей… Вы когда-нибудь видели, как плачут над мертвым-то?
– Кто?
– Ну… хоть сестра или мать.
– Видел… – серьезно и спокойно ответил Берг. – Это действительно трагично. Покойник лежит в гробу. Полный дом народа. Зеркало занавешено. На полу – еловый лапник, запах воска, ладана. Все это, конечно, трагично. А на фронте вы были? – неожиданно спросил он Дениса.
– Нет.
– А я был… Правда, не солдатом, а… ну, скажем, комиссаром… Но в переделки попадал. Идешь, бывало, по трупам, и ничего, хоть бы что шевельнулось в душе. А почему? Потому что знаешь, за что эти люди погибли. И никакой трагедии нет… Все это чушь! Глупость! Вот вы смотрите на меня и, наверно, думаете, что я сам сумасшедший…
– По-моему, вы очень пьяны.
– Может быть, очень может быть, – быстро согласился Берг, помахивая перед носом пухлой рукой, точно отгонял муху. – А вы, молодой человек, знаете ли, кто я? – нарком!
Бушуев почувствовал легкий, невольный испуг.
– Не может быть… – пробормотал он в замешательстве, но тут же понял, что Берг лжет, потому что, во-первых, фамилии наркомов он знал и никакого наркома Берга не существовало, а во-вторых, если бы на пароходе ехал нарком, то об этом было бы известно еще задолго до появления на борту самого наркома.
Берг с каким-то неописуемым восторгом смотрел на смущенное лицо Бушуева.
– Ишь, как вы неудобно себя почувствовали… Хе-хе… А в-ведь имя – великое д-дело. А? – сказал он, подмигивая красным веком и заикаясь. – А ведь я не лгу. Правда, есть небольшая поправка: я нарком не столичного масштаба, а, как бы это выразиться, ну, окружного, что ли… Я нарком м-местной промышленности Тану-Тувинской республики… По-столичному, это вроде директора кирпичного завода, с годовой производительностью в десять тысяч кирпичей… Хе-хе…
О существовании такой республики Бушуев никогда не подозревал, но он как-то сразу поверил Бергу. Разговор, однако, принимал скользкий характер, и Бушуев подумал о том, что пора уходить. Берга, между тем, совсем развезло. Он уже качался из стороны в сторону и чуть не падал со стула. Брови его были нахмурены, губы крепко сжаты; казалось, он что-то мучительно обдумывал.
– Не пора ли вам в каюту? – предложил Бушуев.
– Что? В каюту? Зачем в каюту? – подымая голову, пробормотал Берг. – Успею еще… Слушайте, товарищ, а ведь будет время, когда я сделаюсь настоящим н-наркомом! Будет! Я верю в это, чёрт возьми! Коммунисты никогда не останавливались ни перед какими препятствиями! Все будет! И жизнь, и счастье, и равенство, и свобода на всем земном шаре! Дайте только спустить под откос экспресс, нагруженный монархиями, республиками, демократиями… и прочей контрреволюционной сволочью! Дайте только спустить под откос поезд с Англиями, Германиями, Франциями, Америками! Дайте же! Т-товарищ… Все уничтожим! все сметем!.. э-эх!!
Он упал головой на стол, опрокинул стакан и затих. В дверях показалась удивленная физиономия официанта.
– Уведите его в каюту… – попросил Бушуев, вставая.
Официант поспешно подошел к Бергу и стал приподымать его. Бушуев уже выходил из салона, оглянулся и обомлел. Поддерживаемый официантом, спотыкаясь и низко свесив огромную голову, шел к дверям какой-то карликового роста человек, толстый и круглый, с короткими кривыми ногами. Бушуев вздрогнул и быстро вышел на палубу.
Спускаясь по трапу в каюту, он столкнулся с матросом Семеновым.
– Вам письмо, – сообщил матрос, передавая Денису маленький серый конверт из грубой бумаги.
Бушуев узнал почерк Насти. Он отошел в сторону и с бьющимся сердцем распечатал письмо…
Берг проснулся вечером, поздно. В каюте было прохладно и тихо. На узорчатом линолеуме пола лежал ровный квадрат розового лунного света. В открытое окно врывался свежий ветерок, чуть покачивая на столе пышные белые астры. Снаружи доносился приглушенный плеск воды, причудливо перевитый звуками рояля. Где-то под палубой мягко и глухо вздыхала машина. Пароход слегка вздрагивал.
Берг проснулся с сильной головной болью, но тут же ощутил и другое – большую радость оттого, что проснулся. Неприятный сон привиделся ему. Вначале он не мог понять, почему этот сон был неприятен, но, раздумывая над ним, Берг как-то сразу понял, что неприятен сон тем, что в нем не было ничего нереального, там была лишь действительность – короткая, фанастически сжатая, минувшая действительность в ярких, глубоко реальных картинах. И ему показалось даже, что это все и не сон, а полусонные воспоминания…
…Зимний вечер. За окном старого барского дома тихо кружатся крупные хлопья снега. В гостиной – зажженные свечи, смех, звон бокалов. Там старшие братья Берга, Анатолий и Павел, провожают молодого Евгения Крачковского в Петербург.
– Bonne chance! Bonne chance! – летит по всему дому басовитый голос Анатолия. И оглушительно хлопает пробка от шампанского.
Берг – пятнадцатилетний гимназист – лежит на диване в своей комнате и пристально рассматривает портрет Байрона. О, как он ненавидит своих веселых братьев! Особенно омерзителен ему высокий, красивый, самовлюбленный Крачковский. «Bonne chance… Bonne chance… – повторяет Берг сквозь зубы и с силой швыряет книгу на ковер. – Однако не очень-то надейтесь, господин Крачковский, что революционный Петербург встретит вас à bras ouverts…»
…Маленькая душная комната. Густо плывет табачный туман. У окна, приоткрыв занавеску, кто-то сутулый и черный, в очках, неотступно следит за улицей. Берг-студент делает доклад. «Ленин, – говорит он, – несет человечеству свободу и счастье. Зло царит над миром, и это зло надо уничтожить. Там, где будет уничтожено зло, – легко родится добро. Товарищи студенты! Товарищи рабочие! Смысл истинного революционного гуманизма состоит в физическом уничтожении зла. Иного гуманизма быть не может!..»
…Слякотный, промозглый, мутно-серый рассвет. За Волгой свистит паровоз, долго, надоедливо, нудно. Берг – член Революционного Трибунала – сидит в открытом автомобиле, кутается в воротник шинели и дымит трубкой. Комиссар Климов, поставив ногу на крыло машины, тщательно счищает палкой грязь с сапога. Возле березового леска – толпа осужденных повстанцев. Раздетые до нижнего белья, они тесно жмутся друг к другу, молчаливо и сумрачно поглядывая на вырытую в земле большую продолговатую яму. По бурому свежевыброшенному суглинку ручейками сбегает дождевая вода. На повстанце, что стои́т с краю, нет рубашки. Косой дождь сечет его обнаженное тело. Он часто вздрагивает худыми плечами и поминутно смахивает костлявой рукой что-то невидимое с волосатой груди. «Ну вы, гады! – кричит он молодым красноармейцам, неумело заправляющим ленту в станковый пулемет. – Скоро ли? Холодно…» Красивый чубастый красноармеец ложится на землю и коротко бросает: «Готово, товарищ комиссар…» Климов быстро выпрямляется, отбрасывает палку, поправляет на крутом плече скрипучую портупею и медленно и внятно произносит в напряженно-зловещей тишине: «По предателям-ярославцам, по перхуровской сволочи, занесшей руку на рабоче-крестьянскую советскую власть, по изменникам…» Но повстанец, тот, что без рубашки, обрывает его: «Будет брехать-то! Расстреливай поскорее, с-сука поганая!!» И комиссара Климова охватывает бешенство. Он подбегает к пулемету, отбрасывает чубастого красноармейца, падает плашмя наземь и, прищурив глаз, целится… «Огонь!!» – ревет он и судорожно нажимает гашетку… Та-та-та… та-та-та… Повстанцы нелепо взмахивают руками и один за другим падают в яму, на мокрый суглинок… та-та-та-та… та-та-та-та… Падают молча, вертко, прикрывая ладонями лица, словно от ветра. Пулемет, захлебываясь свинцом, вырывается из рук Климова, но Климов цепко держит его… Та-та-та… та-та-та… Умирающие скребут скрюченными пальцами землю и, икая, выплевывают черные сгустки… Та-та-та-та… Bonne chance!..
Берг включил свет и зевнул.
– Что он там?.. «Сентиментальный вальс»?.. Ну вальс, так вальс… Чёрт! как, однако, голова болит… опохмелиться бы…
Он позвонил. Вошел официант, шустрый человек с хитрыми, чуть раскосыми глазками.
– Закройте, товарищ, пожалуйста, окно… – негромко попросил Берг, не подымаясь. – Опустите жалюзи… И потом вот что: принесите-ка графин водки, что ли…
– Закуска понадобится? – осведомился официант.