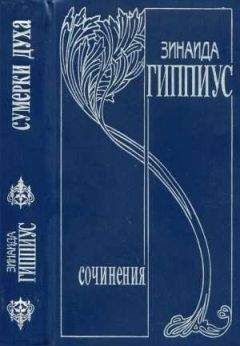Маргарет помолчала. Обносили последнее блюдо – какой-то замысловатый, обильный компот; от него Маргарет отказалась и вдруг опять обернулась к Шадрову.
– Послушайте, – сказала она серьезно. – Вы не сердитесь на меня, пожалуйста, за мои вопросы. Я понимаю, что это было нескромно и невоспитанно, и вообще не принято. Но мне так хотелось говорить с вами и узнать о вас что-нибудь. Я часто поступаю против всех условий, но не могу удержаться, а после мучаюсь. Но я не хочу, чтоб вы обо мне дурно думали.
– Я ничего дурного не подумал и нисколько не рассердился, – сказал Дмитрий Васильевич искренно. – Это, действительно, не «принято» так расспрашивать, а принято вести сначала неинтересный, неинтересующий разговор, приглядываться исподтишка друг к другу, не зная еще, чего стоит этот новый человек: любви или ненависти. Но если для кого-нибудь все люди равны, и он не располагается заранее полюбить или возненавидеть, – тогда и выслеживать друг друга не нужно. Если бы мне казалось, что вам не должно меня расспрашивать, я бы и не отвечал, но я вам отвечал, значит, тоже поступал так, как не принято, был с вами заодно. Только я при этом не мучился, потому что не видел дурного, а вы мучились, хотя дурного нет. Вы рассудите, подумайте, вот и выйдет, что вы делали хорошо, а потом вдруг попросили прощенья – и сделали нехорошо.
Он произнес эту речь полушутливо и полусерьезно. Маргарет сидела, задумавшись, с опущенными ресницами. Она не заметила, что больные бесшумно исчезали из столовой, один за другим.
– Пойдемте, – сказал Шадров, приподымаясь. Маргарет вздрогнула, подняла глаза и быстро встала.
– Мы последние, – усмехнулась она.
И прибавила неожиданно, прощаясь с ним на лестнице:
– Хорошо, будем друзьями, – я понимаю. И если вам покажется когда-нибудь нужным, интересным меня спросить – спрашивайте обо всем, о чем захотите. Я буду, как вы. Это очень хорошо.
Последнюю фразу она сказала почти с акцептом, и вообще, когда волновалась, она говорила не очень чисто.
Шадров, покинув ее, еще зашел на минутку в пустынный, слабо освещенный салон и сел к черному открытому окну.
«А ведь она нерусская», – подумал он мельком о Маргарет. И тотчас же мысли его перебежали на досадную причину его скорого отъезда, скользнули мимо и сосредоточились, связно работая, на том, о чем он чаще всего думал, на книге, которую приготовлял давно, и конца которой еще не было видно.
V
Дмитрий Васильевич женился на Нине Авдеевне из жалости. Когда она сказала ему, совсем неожиданно, что любит, когда он увидал ее искаженное горем и мукой лицо – ему стало больно и захотелось ей помочь. Он не любил ее – она это знала. Она понемногу, стараясь приспособиться к нему и к жизни, выработала себе удобное убеждение, что одни люди живут чувствами, другие – рассудком, и уж тогда им и не надо чувствовать, чтобы не изменять себе; таким она считала Дмитрия Васильевича и хотела только, чтоб он не мешал ей его любить.
Шадров верил, что любовь – может быть прекрасна; жалость к страданью Нины Авдеевны мучила его. И он захотел помочь ей, чем возможно.
Он думал в то время, десять лет тому назад, что следует, – с равнодушием наивозможно большим, равным к себе и другому, – уменьшать страдание, где бы оно ни встретилось. Что оно стоит на дороге – об этом дает знать острая, досадная жалость, которая вдруг впивается в душу. Она просить есть, жалость, и до тех пор кричит, пока ей в пасть не кинешь добычи.
Но, живя и думая дальше, становясь старше, Дмитрий Васильевич начал понимать, что иногда нельзя облегчить страданья, а иногда и не нужно. Жалость – наивна, ее легко обмануть; она кричит, надоедает, как упрямый ребенок, но ее можно успокоить, только делая вид, что помогаешь, унимаешь чужую боль; и даже от этих поверхностных действий жалость умолкала, сося брошенную корку. Но Дмитрий Васильевич, поняв это, старался больше не лгать своему сознанью в сознаньи, а покорно терпеть укусы жалости, когда ему стали встречаться страданья, которых не надо, нехорошо облегчать.
Жизнь его с Ниной Авдеевной распалась через год. Не было вражды, ссор: было только отупение и сознанье – в нем – полной ненужности этой совместной жизни. Нина Авдеевна уехала за границу. Вероятно, все-таки в душе она считала себя правой, а его виноватым и смутно надеялась, что они еще сойдутся.
Шадров давно перестал жалеть ее за ее любовь. Эта любовь, которой она старалась быть верной, не сделала ее ни выше, ни ниже. Думая, что приближается к Дмитрию Васильевичу, она незаметно отучилась от искренности перед собою, изменяла, ради выдуманных мыслей, первым простым порывам своего простого, человечески теплого, слабого сердца и сама порою пугалась своей «смелости», и любовалась ею. Дмитрия Васильевича это и печалило, и раздражало. Раздражало сознание полного бессилия объяснить ей это так, чтобы она поняла.
Был жаркий и яркий день, когда Шадрову опять сказали, что приехала Нина Авдеевна. Длинное кресло Дмитрия Васильевича стояло сегодня не на террасе, а на лугу, за кустами, недалеко от столбов невинной игры для выздоравливающих – кольца на веревочке. В отдалении лежал еще один больной – желчный немец с газетой. Изо рта у него торчала светлая головка термометра. Обязанность ставить каждый час новоизобретенный тоненький термометр под язык, конечно, тоже очень мешала больным вести разговор, и усиливала тишину санатории.
Шадров увидел Нину Авдеевну издали, полную, свежую, довольную и взволнованную, и подумал опять с невольною печалью и раздражением:
«Ведь вот она любит меня и обеспокоится, когда я скажу, что должен уехать отсюда, не поправившись, и первый порыв ее будет – поехать вместо меня к матери, за которой она так хорошо умела ухаживать, пока не решила, что это – жертва, а сильный человек не должен приносить жертв. Как будто есть жертвы, как будто я принимал когда-нибудь ее жертвы! Но неужели любовь ко мне так изломала ее душу, сделала всю ее такой неискренней перед собою?»
Нина Авдеевна, с ярким румянцем на щеках, подошла ближе и протянула Шадрову свою очень большую, очень белую руку с ямочками около пальцев.
– Ну, здравствуйте! Скоро я приехала? Не соскучились?
Все случилось именно так, как предполагал Дмитрий Васильевич. Когда он рассказал ей в нескольких словах, почему должен уехать, Нина Авдеевна ужасно встревожилась, обеспокоилась, принялась выдумывать разные средства помочь горю не уезжая, – под конец даже стала развивать мысль, что Шадров не имеет права жертвовать своим здоровьем ради матери.
Шадров молчал. Нина заметила его раздражение и сама замолчала, взволнованная, обиженная. Через минуту она, желая повернуть разговор и сделать Дмитрия Васильевича ласковее, сказала:
– Ну, а как подвинулась ваша книга? Много написано?
Дмитрий Васильевич не стал ласковее. Он не любил говорить с Ниной Авдеевной о неконченных работах.
– Я здесь не работаю.
Но Нина Авдеевна не унималась.
– Все-таки начало сделано, первая часть кончена?
Дмитрию Васильевичу это приставание было очень неприятно; однако он собрался что-то ответить, когда за кустами по гравию заскрипели торопливые легкие шаги, и через секунду на луг почти сбежала миссис Стид. Она была в белом пикейном платье, удобно и широко сшитом, и в белой шапочке с помпоном на коротких, смешно кудрявившихся волосах. Недлинная юбка открывала тонкие ножки в светлых ботинках. Ее можно было бы принять за девочку – больную, потому что цвет лица у нее был не очень свежий, утомленный.
– Вы здесь? – спросила она Шадрова, приближаясь и еще не видя Нины Авдеевны. – Как хорошо! Я тоже велю принести сюда мой стул… la chaise longue[38]. Хорошо? Можно?
Она говорила почти без робости. В два дня она немного привыкла к Шадрову и перестала его дичиться.
– Мистер Стид еще не приезжал.
Служитель показался из-за кустов с креслом Маргарет. Она заметила Нину Авдеевну, смутилась и нахмурилась. Но через мгновенье улыбнулась и медленно приблизилась.
– Мы, кажется, знакомы? – обратилась она к Нине с вежливостью.
Шадров назвал обеих дам, причем у Нины Авдеевны пробежала тень изумления по лицу, – так не шло к Маргарет чопорное и почтенное «миссис».
– В первый раз встречаю англичанку, которая прекрасно говорит по-русски, – с чуть-чуть сладкой любезностью сказала Нина. Она поняла, что Шадров за эти дни ближе познакомился с забавной больной, но еще не знала, как она ему нравится, а потому не могла решить, нравится ли она и ей.
– Я не англичанка, – произнесла Маргарет резковато. Она уже успела лечь в свое кресло. Пледа ей не принесли, и она без кокетства, но как-то трогательно скрестила, протянувшись, ножки, которых не закрывала слишком короткая юбка.
– Я англичанка по матери и русская по отцу, – продолжала она, – но матери я не помню, а с отцом… я была всегда вместе до пятнадцати лет… И мы всегда говорили по-русски, хотя жили в Лондоне. С тех пор, с пятнадцати лет, я, верно, забыла много… Но все-таки это мой родной язык.