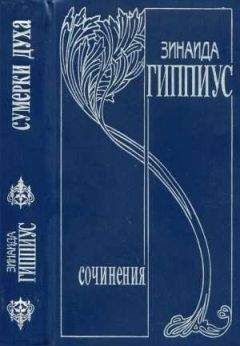– Извините, – сказал Шадров, обернувшись вдруг, – может быть, я тоже должен предупредить вас, что понимаю английский язык?
Он сказал по-французски, ибо владел этим языком лучше и сказал совершенно невольно; у него не было никакой охоты знакомиться с этой странной четой.
Старик, вежливо улыбаясь, приподнял шляпу и произнес тоже по-французски:
– О, я очень ряд! И я не сомневался, что вы говорите по-английски. После трудностей вашего языка – все остальные для вас легки. Я долго жил в России и знаю его немного, а миссис Стид и совсем хорошо говорит по-русски.
Шадров взглянул на старика, все еще не понимая, кто – миссис Стид. Но старик поспешил назвать себя: Эдвин Стид, служитель англиканской церкви. Больная была его жена, миссис Маргерет Стид.
– Теперь я покидаю санаторию на три дня, – ласково сказал мистер Стид. – Я еду в окрестности Висбадена, которые меня очень интересуют. Я надеюсь на благоразумие мисисис Стид в мое отсутствие. Она очень благоразумна, несмотря на свою молодость. Не правда ли, Маргарет, вы будете в точности исполнять предписание доктора?
Маргарет, не улыбаясь, кивнула головой. Она, вероятно, была робка и вспыльчива.
«Однако, – подумал Шадров, – этот медовый пастор точно поручает мне своего остроглазого мальчишку. И зачем он упомянул о молодости? Будто заранее уверен, что я найду странным разницу их лет, и желает показать, что сам это отлично понимает».
Мистер Стид ушел и вероятно уехал. Сильно смерклось, как-то вдруг. Дождь припустил и тяжело зашлепал по гравию. С террасы стали уходить, к тому же и заревел гонг, призывающий к ужину. Он ревел, и звук равномерно усиливался, точно далекое чудовище все шире и шире раскрывало рот и доходило до последнего отчаяния.
Шадров сказал несколько вежливо-холодных слов Маргарет и прошел в столовую.
Столовая была громадная комната, человек на двести, без обоев, с потолком и стенами из одинакового темного дерева. К одной стене прилегала такая же темная деревянная лестница. Электричество давало белые, равнодушно-грустные светы.
В безмолвии, неслышными шагами стекались больные со всех террас, из всех павильонов. Они теперь были сразу в одном месте, – громадная, шевелящаяся толпа, – и еще страннее и страшнее казалось ее безмолвие. Они собрались кормиться, и хорошенько кормиться, потому что от этого должен увеличиться вес тела. Говорить вредно. Да теперь и нет жизни – теперь лечение. Прерванная жизнь начнется, когда будет побеждена болезнь. А для этого нужно думать только о ней и ждать в молчании и терпении.
Шадров рассеянно отыскал свое место и опустился на стул. Есть ему не хотелось после целого дня неподвижности.
Пользуясь близостью бледного электрического цветка, он вынул из кармана письмо, которое получил утром. Письмо было неприятное, – его следовало перечесть и что-нибудь предпринять.
И пока еще не подали первую партию нескончаемой ветчины из собственных санаторских свиней, откормленных до предела, – Дмитрий Васильевич принялся за письмо.
Ему писали, что мать его неспокойна, что сиделка Марья Павловна заболела, а другая, временная, не умеет с ней обращаться. Мать Шадрова была помешана уже восемь лет. Он не отдавал ее в больницу, потому что она всегда, еще предчувствуя, что заболеет, – боялась лечебницы. Она, впрочем, была очень тиха, мало говорила, свивала и развивала длинную тесемку и улыбалась. Привыкла к своей сиделке и к сыну, и беспокоилась только, если долго не видела того или другую. Жили она и Шадров в Петербурге, в двух небольших смежных квартирах. Шадров не чувствовал любви к матери, душа которой давно уснула; но он жалел ее бедное тело, – оно двигалось, ему было больно; жалел руки, дрожа свивающие ненужную тесемку, губы, улыбающиеся бессмысленно и светло.
Ему было неприятно думать, что она теперь плачет оттого, что нет Марьи Павловны и нет его, оттого, что переменили ее привычки, а она не может ничего сказать и ничем себе помочь. Ему захотелось поехать в Петербург, но было и досадно, что нельзя пожить в покое, до выздоровления.
– Вы получили нехорошие вести? – произнес вдруг кто-то около него, тихонько. Все так глубоко молчали, так беззвучно ходили лакеи, ни разу не задев тарелкой за тарелку, что даже этот тихий, как шорох, голос далеко скользнул по зале и заставил Шадрова вздрогнуть от неожиданности.
Благодаря двум исчезнувшим или уехавшим больным он был и за столом рядом с Маргарет.
– Вы чем-то недовольны? – опять спросила Маргарет, с настойчивостью и дерзостью робких, очень самолюбивых людей.
Она смотрела на него прямо своими острыми и невинными желтыми глазами. В коротких, чуть курчавых волосах мелькали золотые искры под лучами электричества. В иные минуты она вовсе не казалась молодой, с усталым лицом, без возраста. Но теперь никто бы не дал этому задорному мальчику больше четырнадцати лет.
Миссис Стид нисколько не интересовала Шадрова и не нравилось ему, но теперь показалась забавной, и он улыбнулся.
Глаза его делались добрыми, когда он улыбался. Это зависело, вероятно, от тени, которую бросали сближавшиеся ресницы; но его улыбка ободрила Маргарет, и она сама улыбнулась.
– Почему вы угадали, что письмо неприятное? – спросил Дмитрий Васильевич.
Он был не очень общителен, совсем не болтлив и предпочитал не знакомиться и не говорить с новыми людьми. Но когда говорил, с родными или чужими, с новыми знакомыми или старыми, он говорил одинаково: равнодушно, открыто, обо всем без различия, что в данный момент интересовало его или его собеседника, и тотчас же прекращал разговор, с полной естественностью, когда прекращался интерес. Солгать или умолчать на прямо предложенный вопрос – ему еще никогда не представлялось нужды. Говорить то, что есть, – гораздо скорее, проще и легче, нежели выдумывать ради сложных соображений. И какие могут быть соображения? Что стоит труда быть скрытым? Ничто не стоит этого праздного труда. Пусть люди, как хотят, справляются со всякой правдой, с важной и неважной. Это им только полезно.
– У вас было такое нехорошее лицо, – сказала миссис Стид, – я и подумала, что вас, вероятно, что-нибудь раздосадовало. Это правда?
– Да. Меня тревожить мать в Петербурге.
– Она больна?
– Она всегда больна, но теперь ей хуже стало жить. Мне хотелось бы еще здесь остаться, а пожалуй, поеду в Петербург. Такая досада!
– А вам нравится здесь? – спросила Маргарет, повернув разговор, бессознательно смущенная простотой его ответов и собственной дерзостью.
– Нет, не очень. Но мне нужно поправиться. Отсюда тоже думал не сразу домой, а сначала посмотреть окрестности, побывать в Гейдельберге…
– А вы бывали уже в Гейдельберге?
– Был.
– Ах, у дамы, которая вчера приезжала?
Шадров не заметил странного тона, которым Маргарет предложила этот вопрос, и он ему вовсе не показался неуместным.
– Нет, я давно был. Она еще там не жила.
– Это ваша родственница?
– Это моя жена, – сказал он просто.
Маргарет расширила глаза и смотрела на него, медленно краснея. Он молчал, потому что она больше не спрашивала, и ел хлеб маленькими кусочками. Мысли его вернулись было к матери и досадному отъезду, но случайно он взглянул на Маргарет и опять улыбнулся: такая она была забавная в своем изумлении.
– Вы, кажется, удивились? – спросил он приветливо. – Что же тут такого для вас странного?
– Я… да! Мне странно. Я не думала, что эта вчерашняя дама – ваша жена. Вы с ней говорили, как с чужой.
– Да она мне в сущности и чужая. Жена, потому что мы с нею венчались в Петербурге лет десять тому назад и потом жили некоторое время вместе. Но мы давно не живем вместе и вот полтора года не видались.
– Значит, вы не любите ее, как любят жену?
Маргарет опять сильно покраснела, точно чувствовала, что нехорошо, неловко так расспрашивать едва знакомого человека, знала – и не могла не спросить. Но Шадров сказал спокойно:
– Как кто любит?
– Как все любят! Она почти сердилась.
– Я не знаю, как все любят. Я думаю, впрочем, что все любят различно.
Маргарет показалось, что он над ней смеется. Но он не смеялся. Он увидал, что у нее слезы на глазах, что она запуталась, стыдится и боится, и ему стало ее жалко, точно споткнувшегося ребенка.
– Мы с моей женой разное думали и разное чувствовали, и жить вместе стало неприятно и незачем, тогда мы и разошлись, – проговорил он с ободряющей ясностью. – Мы с самого начала были разные, чуждые, и знали, что кончится, чем кончилось: то есть я знал, а она надеялась, что обойдется. Я ее много раз предупреждал, но она не хотела ничего знать, а просто верила, во что ей хотелось верить. Да что ж? Особенной беды ведь и не вышло. Все вернулось к старому.
Маргарет помолчала. Обносили последнее блюдо – какой-то замысловатый, обильный компот; от него Маргарет отказалась и вдруг опять обернулась к Шадрову.