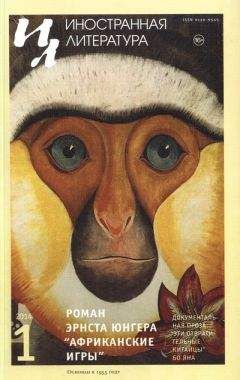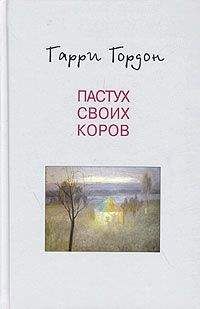от несчастного случая. Чжан Цзянь и тут окажется виновен в том, что убивал его в своих мыслях?
Стоя перед раковиной и отмывая посуду, он почувствовал, как Дохэ прошла к кухонному окошку и принялась счищать с него нагар. Во всем доме только у Чжанов кухонные окна сверкали, как новенькие, в других квартирах их покрывала десятилетняя копоть и толстый слой косматой пыли, свалявшейся не хуже войлока. А некоторые соседи давно закрыли окна фанерой или заклеили цветными вырезками из журналов. Перед приходом санитарной инспекции фанеру и вырезки просто меняли. У Чжанов же кухонное окно сияло чистотой — еще одна странность, которых соседи замечали за ними все больше.
— Брось, убери тряпку, — сказал он Дохэ.
Дохэ на секунду замерла, посмотрела на него. И снова принялась за окно.
— Убери.
Он не мог растолковать Дохэ, что не убивал ради нее Сяо Ши. Потянул ее от окна, повторяя про себя одно и то же: что ты собралась мыть, что?! Прижал к себе. Сколько лет он ее не обнимал? Мокрая тряпка в руке Дохэ коснулась его спины. Он завел руку за спину, отнял у нее тряпку и бросил на пол. Что собралась мыть, что?! Рот Сяо Ши булькал кровавыми пузырями, такими живыми, такими теплыми пузырями, как могли они появиться из мертвого нутра? Сяо Ши был таким живым, как же он мог умереть? Толстокожий Сяо Ши с бесстыжей улыбкой, Сяо Ши, которого невозможно было ни разозлить, ни смутить, — отступился бы он от Дохэ по своей воле? И могла ли злая мысль в сердце Чжан Цзяня его погубить? Сколько раз приносил он детям гостинцы: сою, фасоль, бобовые лепешки. Бедняга Сяо Ши даже аккуратно перевязанными свиными копытцами пытался расположить к себе Дохэ, да только все без толку. Такая у него была душа, грубая, низкая — но что он мог поделать?
Тацуру почувствовала, что Чжан Цзяня бьет дрожь, подняла к нему лицо.
Он превратился в клубок доводов, которые никак не связывались в слова. Он мог лишь крепко обнимать свое мучение, эту женщину, посланную в наказание за грехи, — почему же она никак не перестанет быть похожа на девочку, на потолстевшую девочку, так и не ставшую женщиной? Давно, давно он не целовал ее так свирепо. Теперь они и в самом деле — любовники, которые расправились со свидетелем своего греха и сбежали на край света? Тайно перебрались на тот берег и упали друг другу в объятья? Да, так и есть, по залитому слезами лицу Дохэ он видел, что так и есть. Они обнимали друг друга, потому что сумели спастись от небесной кары.
А еще потому, что Ятоу будет летать, их Ятоу будет летать, ведь у нее самый лучший в городе моральный облик, самые зоркие глаза и самое крепкое здоровье. Они обнимались, желая еще раз напомнить друг другу, что и глаза, и здоровье, и облик Ятоу взяла у них, пополам от каждого.
Он крепко ее поцеловал. Тацуру едва не задохнулась от этого поцелуя. Наконец отпустил. Она смотрела на него сквозь пелену слез. Впервые Тацуру увидела его через светло-коричневую дымку — из мешка казалось, что все вокруг затянуто бежевым туманом.
Она лежала на помосте, а он вышел к ней из бежевого тумана. Высокий — это точно, но обычно высокие неуклюжи и лица у них нескладные, а он — нет. Взвалил на себя мешок и зашагал, окоченевшее тело, онемевшие ноги Тацуру болтались в мешке. Шагая, он то и дело задевал ее голенью. Спасительное онемение разрушилось, с каждым шагом в Тацуру просыпалась и растекалась по телу боль. Она колола тысячью маленьких иголочек, от ногтей, пальцев, ступней иголки бежали стежками по рукам и ногам. Он словно почувствовал, что эта боль стократ хуже онемения, и зашагал плавнее. Он нес ее, прокладывая путь сквозь ряды грязных ног, и она вдруг перестала бояться и этих ног, и гогота их хозяев. Послышался голос старухи. Следом — голос старика. Сквозь дерюгу пробился запах скотины. Потом Тацуру уложили на дно телеги. Мула стегнули, и он зарысил по дороге, быстрее, еще быстрее. Чья-то рука то и дело ложилась на нее, легонько похлопывала, смахивала снежинки. Старая рука, скрюченная, с мягкой ладонью. Хозяйке этой руки лет пятьдесят, а то и больше… Повозка закатилась в ворота, сквозь бежевую дымку она разглядела очень хороший двор. И дом тоже хороший. Ее занесли в комнаты, и из снежного дня она разом попала в лето. Дом гудел от тепла, ее тело стало оттаивать, боль лопнула и разлилась по рукам и ногам… Когда очнулась, кто-то развязывал узел на мешке, прямо у нее над головой. Мешок съехал вниз, и Тацуру увидела его — мельком, одним глазком. И потом медленно прокручивала в памяти образ, который успела ухватить: он не урод. Нет, не так: он хорош собой. А глаза с прикрытыми веками очень красивы. Устыдился своей мягкости и доброты, вот и опустил веки.
Спустя неделю Чжан Чуньмэй, их Ятоу, уехала. В толпе соседей, всем домом собравшихся на проводы, Ятоу в новенькой блестящей военной форме, с желто-зеленой скаткой за спиной походила на радостный почтовый ящик. Процессия спустилась с холма, дошла до дороги. Толпа провожающих поредела, соседи махали будущей тете Лэй Фэн, вспоминали смех Ятоу, топот ее ножек по этажам, ее доброту, и глаза у всех были на мокром месте.
Остались самые близкие: родители, тетя, братья, колченогий Черныш, две одноклассницы и классный руководитель. Они проводили Ятоу до вокзала. Дальше отряд провожающих снова уменьшился, теперь до двух человек: остались только мама Сяохуань и тетя Дохэ.
Сяохуань и Дохэ вместе с Ятоу добрались до Нанкина. Потом Ятоу должна была переправиться через Янцзы и ехать за тысячу ли на север, в планерное училище. В зале ожидания яблоку негде было упасть от лежавших людей. Сяохуань, Дохэ и Ятоу неприкаянно бродили по залу, пытаясь найти тихий уголок, чтобы проститься. Толпы нищих, так же как и они, кружили по устланному людьми вокзалу, словно саперы по минному полю. Откуда все эти нищие, куда они держат путь? Вокзал, полный нищих, — последний раз Сяохуань видела такое в детстве. Тогда японцы оккупировали три восточные провинции [98] и мать с отцом, взяв с собой детей, поехали искать убежище на юг, за Великую стену.
Ятоу впервые отправлялась в дальний путь: с головы пот градом, в голове бардак, Сяохуань это было яснее ясного. В зале ожидания стоял рев дюжины ребятишек.