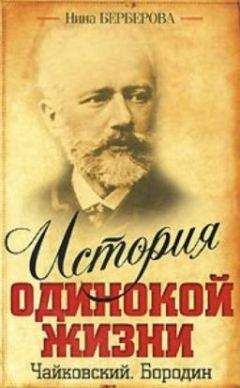Если написать нечто вроде романа, то сейчас же найдутся люди, которые скажут, что я позаимствовал у великих утопистов нашего столетия если не идею, то самый прием, а, может быть, и манеру ее изложения. Но ведь предсказания всех этих гениев, в общем, надо признаться, не оправдались, и мы, в нашем восемьдесят четвертом году, вовсе не так уж далеко ушли от дедовских времен. И потом, я ведь хочу взять патент, это дело серьезное и совсем на утопию не похожее. А если я и позаимствую кое-что у гениев первой половины нашего века, так ведь и они без зазрения совести брали, что могли, у других, живших ранее, и главным образом у нашего же прапрапрадедушки, так что выходит, что я беру у них обратно мое же, мне принадлежащее. Но нет! Оставим роман в стороне. Лучше и проще, да и как-то серьезнее, написать доклад и подать его старшему счетоводу (ведь даже с младшим бухгалтером мне удается перекинуться словом не чаще, чем два раза в год!). Просить его передать записку выше, и еще выше, все выше, и выше… Впрочем, и просить не надо: не может быть, чтобы моей идеей не заинтересовывались самые важные люди. А уж разрабатывать они ее будут без меня: я скромен и не мечтаю стать председателем какой-нибудь Особой Пространственно-Временной Комиссии. Разрабатывать идею будут специалисты, факультеты, академии. После вчерашнего вечера я окончательно укрепился в мысли, что написать все это надо. Иначе скоро на один квадратный метр в лунную, в звездную ночь в городском саду будет приходиться по четыре человека!
Несмотря на быстрый бег автобуса, несмотря на открытые окна, становилось все жарче. Мы неслись теперь в знойном дрожании летнего дня, солнце жгло, приспустили холщовые шторы, и я стал дремать под однообразный шелковистый шум колес в мутном и пыльном свете. «Оставь в покое своего ближнего, — думал я, — ты ему совершенно не нужен», — вот еще один лозунг; эти лозунги придадут моему докладу некий философский оттенок. «Не делай своему соседу ни хорошего, ни дурного, забудь о нем». И я понемногу стал дремать в каком-то внезапно нахлынувшем на меня чувстве безмятежности и сладкой уверенности, что изумрудные сады и лазоревые берега подходят все ближе и ближе, и никоим образом от меня не уйдут.
Я проснулся от толчка. Автобус остановился, и люди выходили гуськом; встал и я. Через секунду я пришел в себя: это уже не тот, не первый автобус, это уже второй, сказал я себе, это второй день моего путешествия, середина второго дня. Я соскочил с подножки на землю и огляделся: был ли это Зеленый берег или Синий, я не спросил. У небольшого озера, на плоском берегу, стоял огромный кирпично-стеклянный завод и весь содрогался от лязга и грохота, ворота главного здания были открыты настежь, там, в темной глубине, сверкала плавильня, чем-то напоминающая то страшной мощи красное солнце, которое стояло над моей головой. А вокруг озера, сколько хватало глаз, стояли тесными рядами раскаленные, неразличимого света, все одинаковые автомобили.
Подле одного из них я растянулся в каком-то одурении, стараясь уложиться в его узкой тени, на камешки и окурки. Черный дым, застилавший полнеба, начинался в той стороне, откуда мы приехали, и не кончался ни над озером, ни за ним. Там, на том берегу, виднелся двойник ближнего завода, тоже кирпично-стеклянный, огромный, чем-то живой: даже отсюда чувствовалось, что он полон людей, грохота, механической силы гуденья и дрожанья, а за ним, слегка сбоку, возвышалась гигантская электрическая станция, вся прозрачная, сложным узором своим похожая на разобранную не до конца Эйфелеву башню.
Я дышал горячим воздухом, пропитанным автомобильными испарениями. Несмотря на тень, бок машины, которого я старался не коснуться и возле которого лежал, был раскален, с озера не шло никакого дуновенья, и меня начало мутить от бензинного перегара, которым наполнялись рот и нос, которым наполнялся я сам, от запаха раскаленных шин, металла, масла. Где я? Сколько городов я проехал, городов, переходящих один в другой? Где тот горизонт, который был обещан мне? Где я? Что это за озеро, окруженное гудящими заводами, где трава, где лес, где поле? Куда ведут эти улицы? Опять к жилью, магазинам, вывескам, автобусам и другим автомобилям? И придут ли сюда люди купаться перед вечером, чтобы и я мог с ними вместе войти в воду? Но вода казалась черно-свинцовой, металлической тоже, как все кругом, и шагах в тридцати от меня стоял столб с надписью: купаться запрещено.
Двое людей подходили теперь ко мне, один был в форменной фуражке, другой — голый до пояса — вытирал лоб и шею платком и, видимо, искал свою машину. Они перешагнули через мою шляпу. И я вскочил и крикнул им вслед, громче, чем полагалось.
— Как уйти отсюда? — я хотел спросить: где все остальное? — но в последнее мгновение мне показалось, что этот вопрос прозвучит неразумно.
— Вы завернете направо, и третий поворот выведет вас на автостраду, — сказал не торопясь тот, что был в форменной фуражке, остановившись и оглядев меня.
— Я — пешком.
— Пешком? — второй тоже остановился, и они оба смотрели на меня.
— Когда идет автобус? — опять спросил я слишком громко.
— Автобус идет завтра утром, — сказал первый, и они пошли дальше, все дальше от меня. Полуголый наконец нашел свою машину, завел ее, выехал и исчез в пыли. Первый, в форменной фуражке, пошел обратно.
— Послушайте, — сказал я уже тише, — я не туда попал, я ехал на озеро, то есть я думал, что это озеро, ну, знаете, как бывают озера… Я проехал четыре города, самое меньшее четыре, их, может быть, было пять. Я думал… У меня еще есть полтора дня. Не можете ли вы мне сказать…
— Обратитесь в информацию, — сказал он, — здесь лежать не полагается. — И он пошел от меня.
Я пошел за ним, волоча свой мешок.
— Понимаете, — говорил я, все стараясь, чтобы он меня слышал, — у меня есть чувство юмора, и я вчера ужасно смеялся, когда Большие Водопады, то есть я хотел сказать — Фонтаны, со мной сыграли одну штуку (разве я смеялся? я совершенно не помню, чтобы я смеялся!). Но сегодня это уж слишком, это уж не смешно. Я сердит, я прежде всего на самого себя сердит, вы только послушайте…
— Обратитесь в информацию, там вам скажут, — повторил он, и я увидел его лицо — оно не выражало ничего. Оно даже не выражало неприязни, в нем просто отсутствовало какое-либо выражение, как в листе бумаги или в чайном блюдечке.
Часы мои показывали без четверти пять. Я был голоден, я шел по дороге между тянущимися до бесконечности стенами завода. Потом начались двухэтажные дома, где, видимо, жили рабочие и служащие ближних заводов: крыльцо — окно, окно — крыльцо, и так далее, до бесконечности, в совершенно пустой улице, без единого дерева, без скамейки, без лужайки, без прохожих, без детей. Я шел часа полтора, пока не прошел ее всю, и ничего, кроме окна — крыльца не видел. Затем она кончилась, и я попал, видимо, на главную улицу, потому что подряд налево и направо шли одна за другой бензинные станции. Потом — площадь, большие стеклянные магазины, три церкви, библиотека, школа, гостиница. Я вошел.
— У вас есть комната?
Комната нашлась. Я умылся, переменил рубашку, спустился вниз, пообедал, но не почувствовал покоя. От усталости, от жары тягостное состояние овладело мною, то состояние, когда внутри все мечется и хочется метаться самому, но нет сил метаться, тянет лечь, а как только ляжешь, внутри еще сильнее все мечется, и ничем этого метанья не утишить, разве что если придет сон и задавит тебя всего, со всеми твоими внутренними трепыханьями, биеньями, всеми этими пульсами, которые стучат в тебе, как сталелитейный завод, на невероятной глубине, не имеющей никакого отношения к собственным твоим видимым размерам.
Я проснулся среди ночи и услышал опять тот же самый звук, который прошлой ночью в полусне не давал мне покоя, когда я лежал на дне цементного бассейна. Какой-то короткий настойчивый вопрос звучал, может быть — одно слово, с ударением на первом слоге, или два слова, каждое в один слог. Может быть, это было совсем не слово, а так просто чиркало что-то двойным чирканьем, или капали капли — одна громче, другая тише, вперед-назад, короткие взмахи, но нет, было в этом звуке какое-то слово.
Утром я спустился в ресторан, в котором, несмотря на ранний час, уже пахло супом, как во всех дешевых ресторанах. Подавала мне толстая, в ночных туфлях на босу ногу и чистом переднике хозяйка. У нее были чистые, спокойные руки и неподвижное, когда-то миловидное лицо. Я решил вдруг, что скажу ей все, что она меня научит, что делать. Она выслушала мой рассказ и тяжело вздохнула.
— Попали не туда? А что же не спросили? И такая жара все эти дни стоит! Я всегда думаю — лучше ехать на каникулы, когда не так жарко, только намучаешься. В такие дни только у залива хорошо.
— У какого залива?
— А у залива, на море. На берегу. По крайней мере, хоть и печет, а все-таки иногда и ветерок есть.