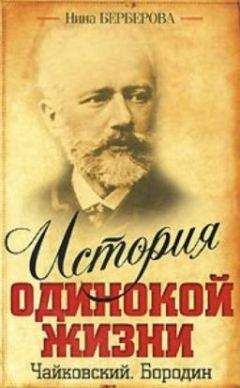Утром я спустился в ресторан, в котором, несмотря на ранний час, уже пахло супом, как во всех дешевых ресторанах. Подавала мне толстая, в ночных туфлях на босу ногу и чистом переднике хозяйка. У нее были чистые, спокойные руки и неподвижное, когда-то миловидное лицо. Я решил вдруг, что скажу ей все, что она меня научит, что делать. Она выслушала мой рассказ и тяжело вздохнула.
— Попали не туда? А что же не спросили? И такая жара все эти дни стоит! Я всегда думаю — лучше ехать на каникулы, когда не так жарко, только намучаешься. В такие дни только у залива хорошо.
— У какого залива?
— А у залива, на море. На берегу. По крайней мере, хоть и печет, а все-таки иногда и ветерок есть.
— Далеко это?
— Часа полтора. Нет, пожалуй, больше. Вы на машине?
— Нет, я автобусом ехал, а потом пешком шел. Она с недоверием посмотрела на меня, и я малодушно добавил:
— То есть от остановки автобуса к вам шел пешком, — предполагая, что есть же где-нибудь в городе этом и автобусы, и остановки. Она успокоилась. В глазах ее появилось даже какое-то сочувствие.
— И вы понимаете, что время идет, — уже не мог я остановиться, — и я все куда-то еду, просто глупо, и даже если иметь чувство юмора, а оно у меня есть, честное слово! то это может показаться очень смешным. Просто страшно смешным, ха-ха-ха!
Она показала ряд зубов, это она так улыбнулась, а затем пошла к другим столикам, но я уже думал только о заливе.
— Есть поезд, — сказала она, возвращаясь со счетом, — вы на него поспеете. Он подвезет вас к самому заливу, это пассажирский поезд, хороший. Идет часа два. Там вы купаться будете, загорать. Песок мелкий, купанье знаменитое. И такой широкий пляж, в полкилометра. Залив!
Я с благодарностью взглянул на нее. В это мгновенье я со всей силой желания, на которую был способен, пожелал ей благополучия, ее детям, ее внукам, житейского благополучия в этой гостинице, в этом ресторане, запах которого преследовал меня до самой станции.
Мешок — под сиденье, шляпу — на полку. Вагоны побежали от одной станции к другой, маленькие, жаркие, гулкие; пассажиры смеялись, было мелькание людей, но я был счастлив, вернее, почти счастлив, потому что сожаление о потерянном времени нашло на меня, как темная туча; было жарко, совершенно так же, как вчера, — я с трудом мог себе представить, что все это было вчера, когда я лежал в узкой тени чужого автомобиля и зловещее озеро было рядом со мной, а потом эта ходьба, а еще раньше был сухой водоем, и я потерял счет автобусам и городам, и был уже не совсем уверен, сколько времени ношусь я по этим городам в этих автобусах.
Опять раскаленное добела небо было в окне, и солнце, к счастью — с противоположной стороны, пекло, и жгло, и сверкало. Я старался не двигаться, от малейшего движения пот обливал меня всего. Я смотрел в окно и там, в странной, наверное нисколько не нарочитой, случайной смене мелькали: дома высокие, дома пониже, железнодорожные пути между ними, кусок автострады, дерево, затертое между двумя церквами, фабрика, бензинная станция, опять дома, пролет улицы, полной движения, улицы, будто вымершей, пересечения проводов надо всем, станция, аэроплан, как серебряный муравей, ползущий по небу, надземная дорога, идущая под углом к нашему поезду, мост, состоящий из четырех мостов, сплетенных между автострадой и улицами, — и так продолжалось не два часа, не три, а без малого — все четыре, когда поезд вдруг приостановился, прошел еще чуть-чуть и окончательно стал. И в окно, в которое я выглянул, за крышами, трубами, церковными шпилями и крестами, водонапорными башнями и газовыми резервуарами, я увидел Залив в дымке зноя. Он мелькнул на одно мгновенье, встречный поезд, входивший на станцию, закрыл его. Но я уже знал, что он есть.
Как все это будет выглядеть в будущем? Меня это интересует, по правде говоря, гораздо больше, чем то, как это выглядело в прошлом. Прошлое я не могу изменить, оно прекрасно (так мы все верим), еще двадцать, тридцать лет тому назад все было прекрасно, это вам скажет всякий. Тут, я думаю, сойдутся и прогрессивномыслящие (как принято их называть), как величайшего ума человек Кузьма Второй, так и какие-нибудь ретрограды, верящие в дурной глаз. Итак, прошлым я не интересуюсь. А вот в переустройстве будущего я могу сыграть некоторую роль, и хотя я не знаю за собой честолюбия чрезмерного и болезненного, но все же должен признаться, эта мысль утешает меня в моей, будем говорить прямо, серой жизни, в моей ничем не замечательной судьбе. Кто этот человек? — спросит кто-нибудь, и ему скажут: это тот человек, который выгадал каждому в среднем одну двадцатьчетвертую жизни и кто сдвоил пространство. Смотрите, мы теперь на некоторое время устроены вполне сносно… Я непременно обязан продумать все до конца, прежде чем писать свой доклад, не говоря уже о романе. Иногда мне даже странно, что это все не приходило в голову другим. Ведь думают же некоторые (и самых различных направлений люди) о том, как устроить судьбу человечества.
Я двигался в густой толпе по направлению к Заливу. Рестораны были полны, под цветными зонтиками люди обедали, пили ледяные напитки; из громкоговорителя гремела музыка, прерываемая рекламой. Я ничего не имею против рекламы, но не понимаю, как можно ее любить больше музыки! А ведь есть люди, которые слушают музыку только нехотя, отдыхая на рекламе. Потом мы зашагали по длинному туннелю, где было прохладно, где вдоль стен сидели не то дачники, не то экскурсанты, наслаждаясь прохладой, и несколько человек из нашей толпы осталось в нем, уверяя, что «здесь лучше». Но я не остался. Туннель вел нас от одного заворота к другому, наконец, вдали появился свет, блеснуло все то же страшное, неотвратимое солнце, и открылся Залив, водяной простор, уходящий в далекую дымку, в туман, и я знал, что буду смотреть в эту дымку до боли в глазах, только бы не оборачиваться на проделанный путь, на шесть, семь, а может быть и более городов, оставленных позади.
Да, все было прекрасно на этом раскаленном песчаном берегу: длинным рядом влево и вправо, обращенные фасадами к Заливу, стояли белые небоскребы, видимо, на десятки километров занявшие широкий, пологий берег. Мы все разулись и шли босиком по горячему тонкому песку, осторожно обходя лежащие тела, осторожно ставя ноги, чтобы не наступить на кого-нибудь, перешагивая через чужие ноги, руки, а иногда и головы. Ревела реклама, прерываемая музыкой, иногда другая ревела прямо из-под ног, из аппаратов, принесенных сюда купальщиками. Там, где можно было найти незанятый кусок пляжа, люди оседали, и я тоже скоро осел между телами, поколебавшись на мгновение, рассчитывая, не задену ли кого, когда буду ложиться. Но кто-то вежливо подвинулся немного, вернее, перевалился на другой бок, и я вдвинулся, втянув в себя плечи и живот, чтобы занять меньше места. Я слышал вокруг себя дыхание людей, разговоры, храп, детский плач, я некоторое время не двигался, чтобы никого не беспокоить, а потом сбросил брюки, рубашку и в одних трусиках блаженно растянулся на животе, положил голову на руки и замер. Низко пролетел геликоптер, тень его на миг задела меня. Я отодвинул от лица консервную банку, пустую бутылку, смятую, полуистлевшую на солнце газету, которую кто-то уронил на меня, и закрыл глаза. Мне показалось, что сквозь тысячи шумов — гул геликоптеров, крик купающихся, визг, радио, свистки блюстителей порядка — я услышал плеск волн. Это было воображение совершенно счастливого человека — Залив был безмолвен и недвижим.
Я, вероятно, забылся. Я пришел в себя и осторожно выпутался из-под рук и ног дремавших в оцепенении соседей, опять, внимательно ставя ноги, прошел до края воды и стал в очередь на купанье. Здесь был полный порядок. Залив, сколько хватало глаз, был заполнен купающимися, и длинные хвосты ждали у самого края берега, когда настанет их очередь войти в воду, когда можно будет поместиться в воде. Солнце все палило, хотелось броситься с сомкнутыми руками в голубую, совершенно плоско лежащую бесшумную волну, но броситься было некуда, все было полно, нельзя было бы даже втереться хитростью. Плечо к плечу стояли люди, держали детей, ныряли осторожно, через одного, удивительно слушались команды надсмотрщиков. Через одного, — сказал я себе, — это подтверждает мою теорию. Интересно, какой великий ум выдумал это «через одного»?
Наконец дошло до меня. Я вошел. Вода была теплая, но все-таки освежила. Я прошел по грудь, людей стало меньше, и я поплыл. Впереди был далекий берег Залива — так я догадывался, — и я все смотрел в него, в туман его зноя, в котором он маскировался под океан. Туда, туда, когда-нибудь, с тобою вместе, — заговорил я вдруг стихами от полноты чувства легкости и надежды, — в конце концов не так это далеко, есть, наверное, пароходики, такие чистые, такие белые, словно протертые одеколоном, и мы взойдем с тобой на такой пароходик, отчалим и поплывем, и там не будет никого, или почти никого, или только такие, как мы с тобой, и мы проживем там с тобой не два дня, не три, а столько, сколько позволит машина — твоя и моя — умная, добрая машина, если мы подождем года два, нам выпадет вместе такое счастье; и подумай, как будет чудесно: там будет лес, поле, лужайка, птицы и цветы. Тот туманный берег казался мне обетованной землей, я любил его, я мечтал о нем, и мне казалось, что эта любовь начинает переходить в другую, в ту, которую я никогда не мог ощутить в себе, которую столько раз мечтал пережить и все как-то не умел, чего-то недоставало. Я повернул обратно и полуприкрыл глаза; впереди появилось все то, от чего мне так хотелось уйти. Там, за этими стеклянно-мраморными, розово-снежными небоскребами, подступившими к воде, лежали отравленные озера, сухие фонтаны, по горизонтальной плоскости протянувшиеся города, один выходил из другого и входил в следующий; там были душные пыльные ночи, знойные пыльные дни, счетоводы младшие и счетоводы старшие, и ты, ты, которую я так сухо и жестко, с таким равнодушием отчитал за то, что ты опаздывала на службу, приведя в пример самого себя, который никогда никуда не опаздывает! С полузакрытыми глазами я плыл и плыл, и мне показалось, что в какое-то мгновение слезы стали течь у меня из глаз, мешаясь с солоноватой водой Залива, слезы жалости и любви, и нежности, и вечности, которой не до смеха. Почувствовав под ногами дно, я встал на него и пошел, все помня, что за мною, через Залив, в голубой дымке лежит иной мир, с которым я на короткое время оказался наедине, вдали от всех, мой мир тишины, нашего общего с тобой одиночества, и радости, тоже нашей общей.